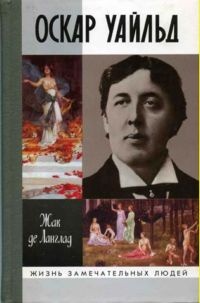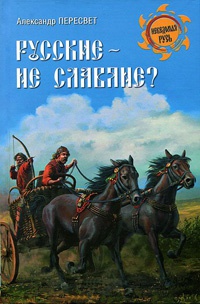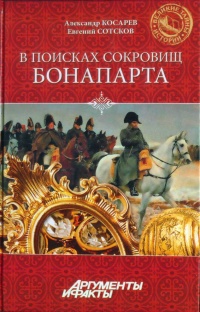Не забывает и о своем профессиональном долге ученого-классика: в апреле 1887 года пишет хвалебную рецензию на только что выпущенный первый том «Одиссеи» в переводе поэта и художника Уильяма Морриса. Гомеру, утверждает Уайльд, повезло куда больше, чем Бальзаку: рецензент многократно ссылается на текст оригинала, стремясь доказать, сколь изящен, богат и вместе с тем точен перевод эстета, прерафаэлита и социалиста Морриса.
Большинство рецензий благожелательны — благожелателен Уайльд не только в жизни, но и в критике. Бывает, однако, и взыскателен, придирчив — в основном к своим бывшим кумирам. И в первую очередь — к учителям. «Аскетизм — главная нота прозы мистера Пейтера, — пишет Уайльд в рецензии на книгу своего наставника „Воображаемые портреты“. — Иногда он даже излишне рассудочен в своем самоконтроле, порой его прозе не хватает раскованности». Про своего «первого и лучшего» учителя Мэхаффи, автора книги «Греческие жизнь и мысль: от эпохи Александра до римского завоевания», пишет, что он «не только лишен духа истинного историка, но и темперамента истинного литератора». Про сборник стихов Реннелла Родда не без яда замечает, что «его эмоции отличаются отменным здоровьем и полнейшей безвредностью» — не всякому поэту придется по душе подобный комплимент, сразу видно, между друзьями пробежала кошка. Про прозу Уистлера — что «словесный фейерверк автора слишком неистов, беспорядочен и многоцветен — не то что живописный фейерверк на холсте». Обиднее же всего прозвучала критическая реплика Уайльда в адрес своего недавнего (процитируем Констанс) «бога и героя» — Алджернона Чарлза Суинберна. Обиднее всего потому, что Уайльд продолжает отдавать мэтру должное, однако теперь пишет о нем без прежнего трепета, более того — не без некоторой снисходительности, как равный с равным. Вот как с высоты своей известности характеризует Уайльд автора третьего выпуска «Стихотворений и баллад», увидевшего свет летом 1889 года: «Почти всегда голос его намного звучнее, чем того заслуживает его песня. Изысканное его красноречие… утаивает смысл более, нежели выражает. О мистере Суинберне, и не без основания, говорят, что он владеет языком, однако с еще большим основанием можно было бы сказать, что язык владеет им. Слова как бы управляют им»[31]. И это претензия литератора, который, казалось бы, всегда ставил форму выше содержания…
С конца 1880-х из-под пера Уайльда выходят не только эстетические миниатюры, но критические произведения более масштабные — программные статьи и эссе, его, так сказать, символ веры. Эти эссе вошли впоследствии, за исключением «Души человека при социализме», в сборник 1891 года «Замыслы». Название сборника, отметим, довольно странное. Ведь из этого названия следует, что и «Упадок лжи», и «Перо, полотно и отрава»[32], и «Критик как художник» — это не более чем наброски, некий еще до конца не продуманный, первоначальный план, замысел, который еще только предстоит воплотить в жизнь. В действительности же взгляды на искусство, нашедшие свое выражение в этих статьях, печатавшихся с 1889 по 1891 год в «Двухнедельном обозрении» и в «Девятнадцатом веке», выношены, сложились, многие не раз высказывались автором и раньше, в его лекциях, письмах, рецензиях. Здесь же, в «Замыслах», Уайльд скорее подводит итоги давно «замышленному», чем что-то «замышляет». Прав был, должно быть, первый русский переводчик этого сборника М. Языков, который подыскал для «Intentions» более точное русское слово — «Искания».
Вот сжатый конспект этой «итоговой» философии писателя, да и всего, в сущности, движения «искусства ради искусства». Ее, как теперь бы сказали, «месседж». Не жизнь творит искусство, а искусство — жизнь: «Чем лучше мы выучиваемся разбираться в искусстве, тем делаемся равнодушнее к Природе»[33]. Искусство не имеет отношения к жизненному опыту, не может и не должно иметь дело с сиюминутным. Искусство дает ответы еще до того, как жизнь задает вопросы: «Искусство воспринимает жизнь как часть своего сырого материала… оно совершенно безразлично к фактам»; «Как только мы обращались к Жизни и Природе, произведения сразу становились вульгарными, пошлыми, неинтересными»; «Искусство должно вырваться из „темницы реализма“». Форма произведения определяет его содержание, а не наоборот: «Истина создается стилем, а жизнь, эта бедная, предсказуемая, неинтересная жизнь, робко последует за ним»; «Искусство находит свое совершенство в самом себе, а не вовне себя». Искусство не должно быть общедоступным: «Публике надо стремиться воспитывать в себе артистизм». В глазах читателя поэт всегда безнравствен, читатель не понимает, что эстетика выше этики, любое искусство аморально: «Истинного поэта всегда клеймят за безнравственность. На самом же деле нездорова публика, художник здоров всегда». Главный враг искусства — общественное мнение, которое выражается прессой: «Публика преисполнена ненасытного любопытства ко всему, что не достойно внимания». Следовательно, автор не должен прислушиваться к мнению публики: «Это произведение искусства должно влиять на зрителя, а не зритель — на произведение искусства».
Такой вот цитатник для начинающего эстета.
Но есть в этих четырех эссе и нечто новое, с чем мы у Уайльда еще не сталкивались. Новое и примечательное.
В «Упадке лжи» писатель обращает внимание на тенденцию в современной ему «стерильной» (то есть натуралистической) литературе и эту тенденцию именует «упадком лжи». Раньше выдумки выдавались за факты, пишет Уайльд, теперь же прозаик, «вооружившись микроскопом, разглядывает document humain[34]», оперирует «скучными фактами», выдавая их за вымысел, отчего современная проза (Золя, Джордж Элиот) напоминает, как выразился Рёскин, «кучу мусора, выметенного из омнибуса». Вывод: «Общество должно вернуться к своему былому лидеру — просвещенному и покоряющему смелостью фантазии лжецу», ибо «все скверное искусство обязано своим существованием попыткой вернуться к Жизни и Природе, мысля их в качестве идеала». Бросается в глаза не только название, но и подзаголовок эссе, построенного в форме диалога между Вивианом и Сирилом (участников эстетической полемики автор наделил именами своих сыновей), — «протест». Вивиан, задумавший эссе «Упадок лжи», «протестует» против отсутствия вымысла в «человеческих документах» своих современников. В наше время считается хорошим литературным тоном называть документальное повествование «невыдуманной историей». Так вот, Уайльд предпочитает историю «выдуманную».
В «Душе человека при социализме» эстет Уайльд выступает в несколько непривычной для себя роли — утопического социалиста. А впрочем, почему непривычной? Читатель, надо надеяться, не забыл, как еще оксфордским студентом будущий писатель под влиянием Джона Рёскина предлагал «эвакуировать» машинное производство из английских промышленных городов на далекие острова. По прошествии десяти лет Уайльд вновь рисует рай на земле, на этот раз — не патриархальный, «антимашинный», а социалистический. В нем, как и во всяком раю, существует равенство, нет богатых и бедных, нищеты и голода, при этом уайльдовский социализм «избавляет от необходимости жить для других», призывает жить для себя и стремиться к высшей цели эволюции — Индивидуализму. Нищему и голодному не выразить свою индивидуальность — бедность и нищета «действуют растлевающе». В случае, если социализм станет авторитарен, предупреждает Уайльд, человеку грозит «индустриальное самовластье». Не долго задержавшись на футурологии, Уайльд становится на более прочную и благодатную для себя почву — искусство. Всякая власть, рассуждает он, растлевает и порабощает; не будет частной собственности, разрушившей истинный индивидуализм, не будет растлевающей и порабощающей власти — значит, не будет карательных мер и преступлений и возродится искусство — «уникальное воплощение уникального склада личности». Художник только выиграет, если не будет вообще никакой власти, а это — подводит Уайльд черту — и есть социализм. Что тут скажешь? Не пришлось жить лондонскому мечтателю при развитом социализме, не довелось говорить со своими коллегами по перу, «имевшими счастье» творить в «обществе равных возможностей»…