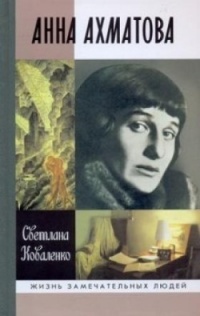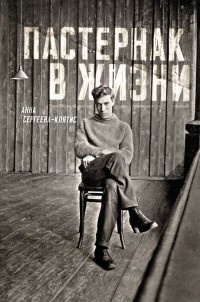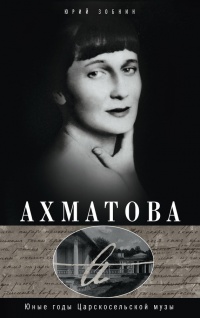О нет, любимая, будь нежной, нежной, нежной! Порыв горячечный смири и успокой. Ведь и на ложе ласк любовница порой Должна быть как сестра — отрадно-безмятежной.
Стань томной; с ласкою дремотной и небрежной, Размерь дыхание, взор сделай мирным твой. Объятий бешеных дороже в час такой Твой долгий поцелуй, хоть лжет он неизбежно.
— Это не Верлен, и не ты сочинил. Это кто-то придумал за меня. И речь обращена к тебе! Ты бешеный итальянец, ты душишь меня поцелуями, я теряю сознание в объятиях — «порыв горячечный смири и успокой!
Он потянулся за вином, выпил прямо из горлышка и расхохотался:
— Ты! Ты! Ты виновата… Радость моя нежная, а поесть у нас ничего не завалялось?
— Был кусочек вчерашней ветчины.
— Увы, я его ночью съел. Не грусти, царица. — Он вскочил, натянул широкие холщовые штаны и стал заворачивать в холст подрамник с портретом криволицего краснорожего мужика. — Пойду в «Ротонду». Лурьен мне обещал притащить клиента. Жди — приду богатым и устроим гульбу!
Его вымело, словно по комнате прошел сквозняк. Хорошо, что взял этот портрет — хоть глаза у кривого и были просто замазаны синей краской, а следили за ними не отрываясь. Анну осенило: живописью Амедео руководила некая мистическая сила. Он шел, ведомый ею, и это была его особая дорога. Что найдет на ней, что потеряет? Вопрос и в том — кто решится купить такой портрет?
Увы, он не разбогател, попытки сделать крошечный вернисаж в магазинчике друзей обернулись штрафом за изображение раздетой натуры в витрине лавчонки. Амедео был так беден, что не мог не только пригласить Анну в ресторан, но и предложить ей платный полотняный шезлонг в Люксембургском саду, и беднягам приходилось сидеть на обычных скамейках. Ахматова рассказывала, что они гуляли по ночному Парижу, по старинным, темным улочкам, а однажды даже заблудились и пришли в мастерскую Модильяни лишь под утро.
В крохотной, заставленной холстами комнатке Ахматова позировала художнику, естественно, одетая. В тот сезон Модильяни нарисовал на бумаге, по словам поэтессы, шестнадцать ее портретов, которые сгорели потом во время пожара в Слепнево. Однако до сих пор некоторые искусствоведы считают, что Ахматова скрыла рисунки, не желая представить миру откровенные «ню», рассказывающие всю правду об их отношениях… Ведь, по утверждению Анны Андреевны, наброски обнаженной русской Модильяни делал по памяти у себя в мастерской, в то время как она отдыхала в гостинице. Три месяца? Поразительный альтруизм петербурженки — работать натурщицей у бесперспективного и малоинтересного «мазилы», страдающего к тому же склонностью к наркомании. Да еще каждый раз волноваться, не слишком ли откровенно прописана поза?
О, не морочьте нам голову, уважаемая Анна Андреевна! Зачем так стесняться волшебных молодых порывов, данных на радость долгой жизни? Три месяца счастья и терзаний совести — любимое сочетание поэтессы. Оно рождает чудесную мелодику стиха. Жаль, что все сожжено… В рассказе Анны Андреевны запечатлены лишь ситуации, приличествующие гостившей в Париже замужней даме. Так, согласно документу, днем Модильяни водил ее по музеям, особенно часто они заходили в египетский подвал Лувра. Амедео был убежден, что лишь египетское искусство может считаться истинным. Художник отвергал прочие направления в живописи. Русскую подругу он изображал в нарядах египетских цариц и танцовщиц.
Когда же наступала ночь, влюбленные выходили из мастерской и гуляли под открытым небом. По воспоминаниям Ахматовой, в те дни шли обильные дожди, и заботливый Дедо (так называли его в семье), прихватив на случай дождя огромный черный зонт, раскрывал его над Анной, словно пряча ее от всех житейских забот. В такие минуты для Ахматовой существовал лишь он — ее странный друг, казавшийся малым ребенком, нелепый романтик, воспевающий неземные миры.
Ахматова утверждала, что никогда не видела Амедео пьяным. Лишь однажды, накурившись гашиша, он лежал и в растерянности держал ее руку, повторяя: «Sois bonne, sois douce». «Но ни доброй, ни нежной, — добавляла поэтесса, — я с ним не была». Анна Андреевна считает, что замужней женщине приличествует быть строгой и нравоучительной с художником, позволяющим себе лишнего. Нельзя отрицать: ее не могли не страшить его увлечения, так легко подчиняющие его мягкую волю и ломающие и без того хрупкое здоровье. Она пробовала нажать на его тщеславие, угрожать разрывом, уходить. На следующий день он приползал, как провинившийся щенок, и клялся, клялся, что «никогда больше»… Но вырваться из алкогольной зависимости он уже не мог. Страдал, проклинал судьбу, и все повторялось снова.
Провинившись, Модильяни часто бродил ночами у ее отеля, бросая в окно сорванные на клумбе цветы или ветки жасмина до тех пор, пока она не выходила из темного парадного — непреклонная, гордая «святая блудница». Гумилеву для создания идеала не хватило маленького условия — он не сумел стать любимым мужчиной своей Примаверы.
Однажды Анна повторила трюк: не застав Амадея в мастерской, забросила ему в окно мелкие алые розы, целый букет которых только что купила у старушки.
— Как ты проникла сюда? — удивился он, обнаружив цветы.
— Они сами влетали в окно.
— Этого не может быть! Цветы лежали так красиво!
Эпизод с розами описан Ахматовой в воспоминаниях как самая милая и интимная деталь их взаимоотношений.
Когда Ахматова, покидая Париж, прощалась с Модильяни, он отдал ей свертки рисунков: