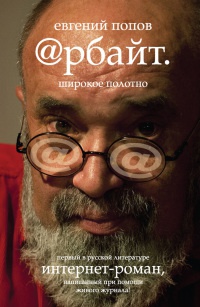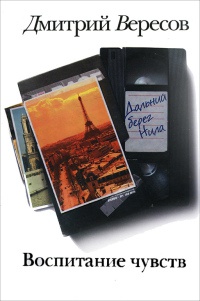Уже тогда, несмотря на скудность моих знаний о масштабах захлестнувших нас событий, я понимал, что эти злосчастные будут гибнуть как мухи. Именно они станут основными жертвами дороги.
И все же даже здесь, в лагере и рядом с людьми, на ком лежит ответственность за организацию столь чудовищной жестокости в таких масштабах, рядом с теми, кто был способен не задумываясь, с ходу пойти на варварские зверства в отношении других людей — даже здесь я находил удовольствие в машинах, которые я любил и к которым был сейчас так близок, пусть и не по своей воле. Человек вообще сохраняет в себе больше простодушия и невинности, чем принято считать. Однажды, вскоре после ухода команд «F» и «H», в той стороне, где лежал новый бирманский участок, показался столб дыма и пара. На этом свежепроложенном пути еще ни разу не ходил локомотив, так что я немедленно навострил ушки. Состав — небольшой, из трех-четырех вагонов — въехал прямо в наш лагерь. Его тянул один из самых удивительных паровозов, которые я когда-либо видел. Великолепно сохранившаяся машина выпуска конца XIX — начала XX века, построенная на локомотивном заводе Краусса в Мюнхене, о чем извещала начищенная латунная табличка. Помню, до чего я был счастлив увидеть это чудо на пыльном, приходящем в негодность запасном пути под пальмовыми кронами. Скотосбрасыватель гордо контрастировал с обводами высокой дымовой трубы; лаково-черный котел и латунная отделка вызывали к жизни полузабытые, призрачные воспоминания о курортных поездках, о душистом аромате прощаний и о беспечно прожигаемой жизни.
* * *
Роль подневольного строителя железной дороги внезапно завершилась в августе 1943 года.
Предали нас, или же японцам просто повезло, я не знаю и не узнаю. Сколько бессонных ночей за минувшие полвека я потратил, силясь понять, проследить источник утечки. Может, кто-то просто не сдержал восторга от очередной победы союзников, а некий охранник это услышал; может, какой-то глупец вел дневник, записывая новости, которые доходили до него через водителей, бывших нашими курьерами… Было время, когда до зарезу требовалось знать, кто нас подставил, хотя бы сдуру, потому что в наших глазах он был ничуть не лучше тех, кто предает сознательно. После войны выжившие устроили бы на него охоту… Но у нас на руках была всего лишь нескончаемая, болезненная неопределенность, натирающая душу как наждачная шкурка.
29 августа 1943 года, после утренней поверки, мы не услышали привычную команду «разойдись». Вместо этого караул продолжал держать пленных по стойке смирно. Рассвет только брезжил, было даже прохладно. Группа солдат пошла по нашим баракам, остальные — непривычно настороженные и агрессивно настроенные — сомкнулись вокруг нас кольцом, с пристегнутыми штыками. Было слышно, как в бараках роются, поначалу вяло, без огонька, но затем их словно подменили. Грохот, треск, что-то валится — по нарастающей.
Прошел час. Солнце припекало, однако нам запретили даже шевельнуться. Свыше сотни пленных в одних майках и лохмотьях обмундирования замерли как статуи. Обыск продолжался, за нашими спинами росла гора каких-то вещей, которые выкидывали наружу. Вскоре образовалось нечто вроде кургана. Еще возникало впечатление, что особый интерес у охраны вызывает тот угол, где стояли нары Тью.
Часа через три солдат-японец выкрикнул его имя. Тью зашел в барак. Нас распустили, мы обернулись — и увидели кучу автомобильных аккумуляторов, динамо-машин, деревянных и жестяных коробок плюс невероятное разнообразие слесарного инструмента японского производства: остатки тех запасов, которые мы распродавали местным сиамцам и китайцам сквозь дырки в ограде. Подъехал грузовик, и вся эта контрабанда была увезена прочь. Сержанту Тью разрешили вернуться к нам. На нем лица не было. Японцы нашли приемник.
Один из пленных стоял так, что мог видеть происходящее в бараке. По его словам, обыск поначалу шел спустя рукава. Солдаты бродили вдоль нар, порой беря в руки что-то из вещей. Затем какой-то японец обратил внимание на складки одеяла Тью. Наверное, заметил крошечный кусочек белой бумаги, не больше почтовой марки, будто дразнящий намек на недозволенную шалость. Кусочку бумаги здесь было явно не место.
Охранник с невинным видом щелкнул по нему пальцем и потянул за уголок. Показался небольшой сложенный лист, отлично мне знакомый. На нем была вычерчена довольно верная карта Соломоновых островов. Мы скопировали ее с иллюстрации в какой-то японской газете, которую стащили у охранников. Она была нужна нам, чтобы отслеживать ход событий в сводках Всеиндийского радио, где упоминались жестокие бои на островах Рендова, Мунда и Нью-Джорджия. Одеяло полетело в сторону — и открылась пара самодельных наушников: черные кружочки динамиков, обмотанные холщовым ремешком цвета хаки, ни дать ни взять крошечный спящий зверек.
Дальнейшие поиски, как мы заранее предчувствовали, принесли охране не просто один радиоприемник, а целых четыре, разной степени завершенности. Да, мы не теряли времени даром и с большим тщанием старались повторить прошлый успех. Как и самый первый аппарат, его младшие братья были собраны столь же аккуратно, с любовью, и помещались в кофейных банках со съемным днищем, которое и служило в роли шасси для деталей. При поверхностном обыске сойдет, но сейчас творилось нечто совсем иное.
Когда мы вернулись в бараки, то обнаружили полнейший хаос. Все бросились к личным тайникам… Пусто. Каждый вещмешок, каждая коробочка были вывернуты наизнанку, вытряхнуты, все нары обысканы вдоль и поперек. Даже побеги пассифлоры, тянувшиеся по стене офицерского барака, и те были сорваны и разодраны на кусочки.
Белый день почернел. Пессимисты, в особенности их мрачнейший пророк Джим Слейтер, говорили, что теперь лагерь уничтожат. Оптимисты же надеялись, что такая находка сама со себе достаточна, но вид у них был осунувшийся и растерянный. В тот день лагерь вышел на работу в страхе и молчании. Тью был центром облака беспомощного сочувствия, возясь — без улыбки, одеревенелый от напряженности — над дизель-генератором в мастерской. Ночь выдалась бессонная. Над нарами, словно паутина, висел встревоженный шепоток; одни лишь жуки бодрились, падая с кровли нам на голову и разбегаясь по доскам.
Ранним утром японский комендант лагеря вызвал к себе Тью и еще одного солдата, у которого нашли наибольшее количество вещей, выкраденных со склада. После короткого допроса нарушителей выставили наружу, прямо на солнцепек. При этом температура в тени была градусов под сорок. Они стояли навытяжку, рядом — охранник. Та же самая картина наблюдалась несколькими часами позже. Это было типовое, уже известное нам наказание, и оно могло продолжаться хоть целые сутки.
Днем Тью куда-то отвели, затем он появился вновь, на этот раз с тяжелым кузнечным молотом. Его опять поставили на солнце, вдали от любых источников тени, но рядом с деревянным чурбаном, по которому он и принялся бить своим молотом, раз за разом, час за часом. Глухие удары металла по дереву разносились по всему лагерю как неумолчный звуковой фон, аккомпанировали шагам пленных, когда те шли в мастерские или покидали их. Словно тамтам, оповещающий о каком-то зловещем, безымянном событии.
Тью никто не назвал бы слабаком, но все мы были истощены и уж во всяком случае не годились для бессмысленного оббивания чурбана молотом. Вечером начальник караула послал на пищеблок за едой для Тью. Кухонная команда расстаралась на славу: в большой котелок положили овощей чуть ли не на несколько человек и даже что-то мясное, ополовинив наши скудные запасы белка, а сверху замаскировали невинно выглядящим рисом. Японский офицер заглянул в котелок и махнул рукой: должно быть, белесая клейкая масса выглядела как дополнительное наказание. Тью получил свой ужин.