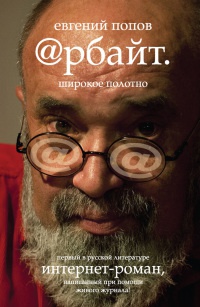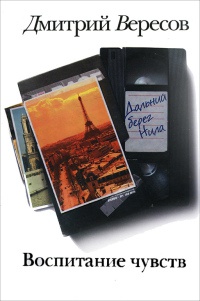Откровение Иоанна Златоуста по-прежнему действует на меня более чем сильно. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец…» Представленная в этой библейской книге картина Апокалипсиса и последних мгновений мира, который разваливается на куски лишь с тем, чтобы вновь собраться в свете и счастье, как раз и лежала в основании той веры, которой придерживалась Община, и продолжительных проповедей на улице Шарлотты. Ничто после прибытия в Малайю не заставило меня усомниться в том, что катастрофа и впрямь может наступить, что великие империи могут распасться или что в экстремальных условиях человек действительно может оказаться беспомощным.
Пожалуй, лишь пленники, без объявленного срока или правил содержащиеся на потеху своим тюремщикам, в состоянии понять Иова:
Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое; оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей Твоих против меня; усиливаешь гнев Твой на меня; и беды, одни за другими, ополчаются против меня.
Делиться многими глубоко личными вещами мы не могли, зато ничто не мешало нам обсуждать религию, пусть даже большинство моих товарищей были членами Англиканской церкви, а я принадлежал к одной из баптистских сект. Помнится, в лагере по рукам ходили письма со страстными призывами к духовному подвигу. Так мы поддерживали то лучшее, что было в нашей человеческой сути, и это помогало выживать.
Я по-прежнему хотел учиться, расти и совершенствоваться. В памяти осталось, как я на обрывках зеленой бумаги вел что-то вроде конспекта по языку хиндустани, с аккуратными колонками слов и временных глагольных форм, а с моим другом Вильямсоном мы даже изучали японский. Освоили базовый словарный запас, что порой позволяло понять, о чем там говорят охранники.
А тем временем 1943 год шел своим чередом. Нежная весна уступила место одуряющей духоте лета. Мы почти что приспособились к высокой влажности и дождливым сезонам, поддерживали нечто вроде внутренней жизни, куда японцам был вход заказан. Привыкли ходить полуголыми, бронзовые от загара и худые, как жерди; привыкли вечно почесываться из-за въевшейся в кожу грязи, как оно всегда бывает при отчаянной нехватке мыла.
Хотя Канбурский лагерь угнетающе действовал на психику, в целом его можно считать «неплохим». Практически вся работа требовала той или иной квалификации, нас редко направляли на объекты за пределами лагеря, изнуряющих заданий было относительно немного, а заведовали всем этим хозяйством — как и в Банпонге — японские инженеры, а вовсе не кадровые военные, среди которых попадались идеологические фанатики. Не так уж много было и охранников из корейцев — те вымещали на военнопленных унижение, которое сами терпели от японцев[5]. К тому же до Канбури с его драгоценными продуктовыми рынками было полчаса ходу.
Другим повезло куда меньше. В один из апрельских вечеров я обратил внимание на группу измотанных, подавленных, грязных британских солдат, вповалку устроившихся на своих вещмешках возле главных ворот, откуда шла дорога на север. Их были сотни. Они просто лежали в полной неподвижности, как свойственно людям, которые уже вынесли один бог ведает что, но при этом знают, что дальше будет хуже. Один из них рассказал мне, что они только что пешком отмахали тридцать миль из Банпонга — без еды и почти без воды, — погоняемые обозленными корейскими охранниками, причем никто понятия не имел, сколько еще предстоит идти и что там их ждет, когда они наконец доберутся до места назначения.
Измочаленная армия из запущенных солдат, лежавших на траве вдоль дорожной обочины, ярко напомнила о склонности японской военной машины к безразличию, а вернее, полнейшему наплевательству на гуманистические ценности. Эти смертельно усталые люди представляли собой авангард так называемых рабочих команд «F» и «H», присланных из Сингапура в Банпонг спецэшелонами. Отсюда в направлении отдаленных участков ТБЖД, которая уже близилась к завершению, ежедневно и еженощно уходили поезда, груженные новыми рельсами и техникой.
На протяжении двух следующих месяцев колонны донельзя грязных, измученных людей проходили мимо мастерских Канбури. Мы делали для них все, что могли, делились пищей и водой, но это уже были живые мертвецы. По какой-то немыслимой, безумной оплошности их так и не передали на довольствие японской администрации Сиама, которая, соответственно, и не была обязана их содержать. А те, кто отвечал за питание этих людей, за саму их жизнь, сидели по своим конторам в Сингапуре, за тысячу миль отсюда.
Пока что я старался не забегать вперед и не освещать события сквозь призму ретроспективной оценки, однако судьба этих людей — уже наполовину безумных к тому моменту — требует, чтобы я прямо сейчас о ней рассказал. В командах «F» и «H» была зафиксирована самая высокая смертность среди всех военнопленных, работавших на строительстве ТБЖД. Их прислали, чтобы подстегнуть темпы, дать «последний толчок» и тем самым завершить строительство с опережением — своего рода штрафбат, бросаемый в прорыв. Некоторым из них предстояло пешком преодолеть две сотни миль по холмам. Погиб каждый третий, а многие из выживших остались калеками на всю жизнь[6].
Даже в те дни мы спорили, нет ли во всем этом безумии некоей системы, жестокого подтекста? Адмирал Ямамото, спланировавший атаку на Перл-Харбор и, может статься, величайший флотоводец в истории Японии, погиб во время инспекционной поездки по Соломоновым островам. Перевозивший его самолет был сбит над Буганвилем 18 апреля — и сразу после этого командам «F» и «H» приказали пешком добираться до конца ТБЖД. Не было ли это своего рода коллективным наказанием, порождением воспаленного ума? Что, если смерть Ямамото вызвала у японцев желание отомстить, отыграться на военнопленных? Такие вопросы не давали покоя там, и я до сих пор не получил на них ответа.
Пленные, проходившие мимо нашего лагеря, ночевали прямо под открытым небом, без какой-либо защиты от насекомых, которые нещадно на них набрасывались с наступлением темноты. После ухода этапируемых мы замечали брошенные вещи, части снаряжения, лишь бы как-то облегчить поклажу. Сколько же у них осталось — да и осталось ли вообще? — к концу пути, невольно задавался я вопросом.
Примерно в то же самое время начали прибывать и гражданские депортированные рабочие. Поначалу жиденький поток азиатов — китайцев, индусов, малайцев, индонезийцев, бредущих из Банпонга в Канбури. А потом словно шлюзы распахнули: настоящий потоп, цунами из подавленных людей, среди которых порой встречались даже женщины и дети. Вся эта людская масса устремлялась в верховья реки Кхвэной и самые дальние лагеря на маршруте ТБЖД. Подобно военнопленным, их пригнали, чтобы ускорить ход работ. Однако, в отличие от нас, гражданские не были организованы. Просто люди сами по себе, в одиночку или семьями, без какой-либо структуры или иерархии.