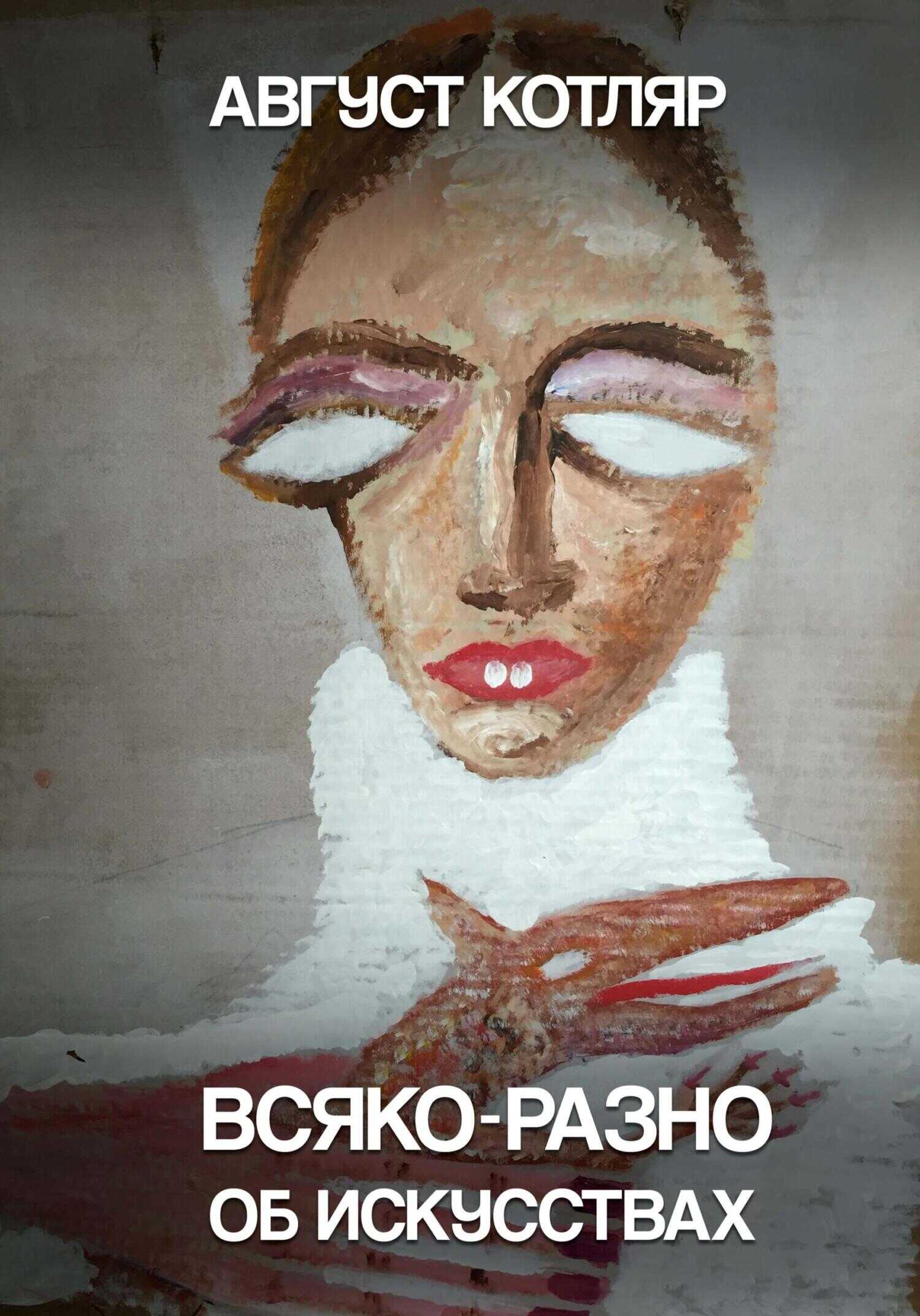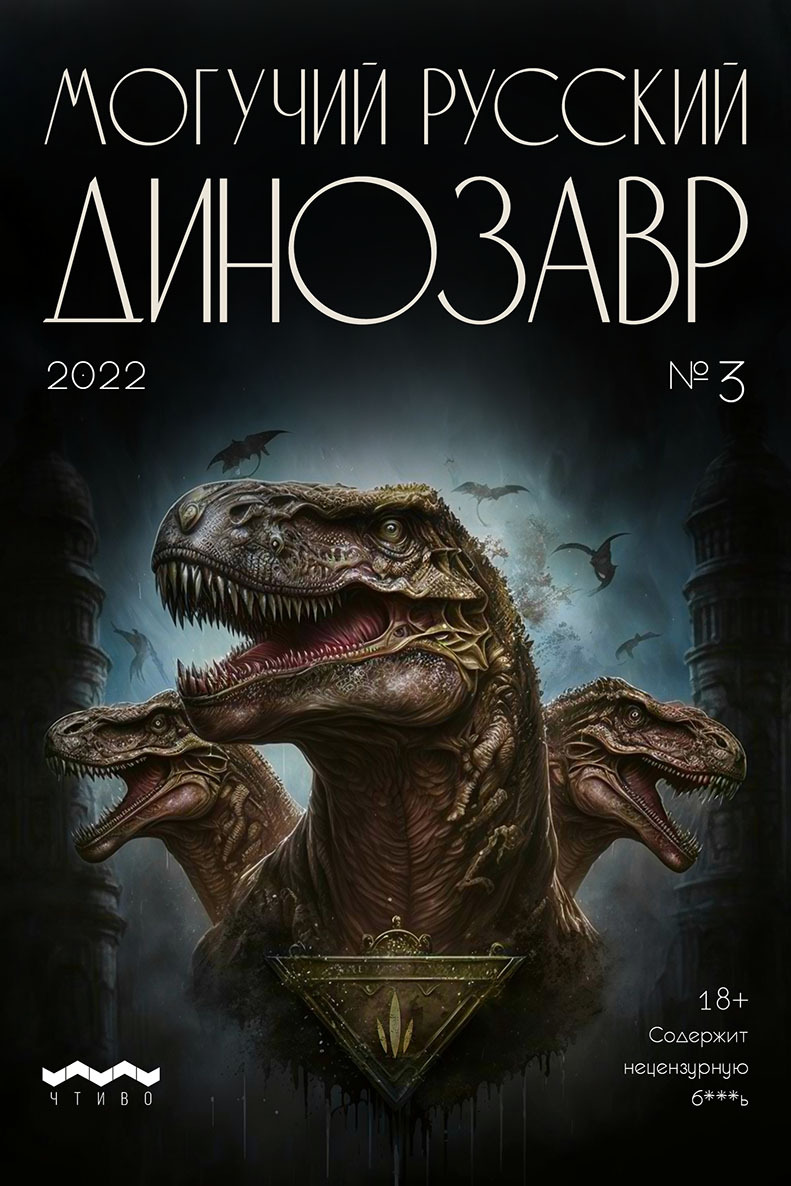себя как ответственный родитель. Я обеспечу своим клонам хорошее образование; а потом я умру. Умру без удовольствия, потому что мне не хочется умирать. Тем не менее, пока не доказано обратное, мне придется это сделать. Благодаря клонам я смогу достичь определенной формы жизни после смерти – не совсем полноценной, но все же лучше той, какую я бы получил благодаря детям. На сегодняшний день это максимум, что могут мне предложить западные технологии.
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня нет возможности предугадать, родятся ли мои клоны из живота женщины или нет. То, что профану казалось технически простым (обмен питательными веществами через плаценту – априори не такая великая тайна, как акт оплодотворения), оказалось труднее всего воспроизвести. В случае, если в развитии технологий будет достигнут соответствующий прогресс, мои будущие дети, мои клоны начальный период своего существования проведут в колбе – мне от этого немного грустно. Я люблю женскую вульву, я счастлив находиться в женщине, в эластичной податливости вагины. Я понимаю всю необходимость безопасности, все технические императивы; я понимаю причины, по которым мы постепенно перейдем к вынашиванию in vitro; я всего лишь позволяю себе выразить по этому поводу легкую ностальгию. Сохранят ли, переймут ли они вкус к вульве, мои дорогие малыши, рожденные вдали от нее? Я надеюсь, надеюсь от всего сердца, ради них. В мире много радостей, но мало удовольствий – и так мало удовольствий, не причиняющих никакого вреда. Конец гуманистического отступления, скобки закрываются.
Если моим клонам суждено развиваться в колбе, то они родятся без пупка: это само собой разумеется. Не знаю, кто первым употребил в уничижительном смысле термин “литература, созерцающая свой пуп”; но знаю, что это пошлое клише мне никогда не нравилось. Какой интерес в литературе, если она намерена повествовать о человечестве, отметая любые личные соображения? Не подскажете? Люди куда более одинаковы, чем воображают в своем комичном самомнении; куда легче, чем они воображают, достичь всеобщего, говоря о самом себе. И вот вам второй парадокс: говорить о себе – занятие нудное и даже отвратительное, но писать о себе в литературе – единственно стоящее дело, настолько, что книги традиционно (и вполне справедливо) оценивают по способности автора вложить в них свою личность. Это, если угодно, гротеск, это безумное бесстыдство, но это так.
Я пишу эти строки, созерцая свой пуп – в буквальном смысле. Обычно я редко о нем думаю; тем лучше. Эта складка плоти несет в себе наглядный знак разреза, наспех завязанного узла; он – память о взмахе ножниц, который без лишних церемоний выбросил меня в мир и предоставил разбираться с ним самому. Вам, как и мне, никуда не деться от этого воспоминания; даже и в старости, в глубокой старости, вы сохраните посреди живота нетленный след этого разреза. Через эту плохо заткнутую дыру ваши самые скрытые от глаз органы могут в любой момент вырваться вон и сгнить в атмосфере. Вы в любой момент можете выпотрошить ваши внутренности на солнышке и сдохнуть, как рыбина, которую приканчивают ударом сапога прямо в спинной хребет. Не вы первый, не вы самый известный. Помните, что сказал поэт?
Перед нами, наг и убог,
Корчится мертвый Бог,
Как снулая рыба треска
Под сапогом рыбака.
Скоро и с вами так будет, детишки, мелкие ничтожества. Вы станете как боги – и этого все равно будет мало. У ваших клонов не будет пупка, зато у них будет литература, созерцающая свой пуп. И вы тоже будете созерцать свой пуп; вы будете смертными. Ваш пупок покроется грязью, и на том все кончится. А в лицо вам накидают земли.
Небо, земля, солнце[39]
Успешному писателю положены некоторые предметы роскоши, которые общество предоставляет только выдающимся или богатым своим членам; но для мужчины самым сладким подарком славы служит то, что именуется англосаксонским словом groupies. Речь о прелестных, чувственных девушках, которые хотят подарить вам свое тело для любви единственно потому, что вы написали несколько страниц, тронувших их сердца. Сегодня я уже не исключаю, что могу устать и от поклонниц, и от славы; это грустно, но вполне вероятно. Но даже в этом случае я не перестану писать.
Следует ли из этого, что писать стало для меня необходимостью? Высказывать эту мысль мне неприятно: по‐моему, это китч, банальность, вульгарность; но реальность еще хуже. Наверно, говорю я себе, случались порой моменты, когда мне было достаточно жизни; этой самой жизни, полной и цельной. В норме живым людям должно быть достаточно жизни. Я не знаю, что такое случилось, наверно, какое‐то разочарование, не помню, но я не считаю нормой, что у кого‐то есть потребность писать. И даже что у кого‐то есть потребность читать. И тем не менее.
Я сейчас в Ирландии, и у меня вид на море. Это подвижный, не совсем надежный и все же материальный мир. Я ненавижу сельскую местность, она вас давит и гнетет своим присутствием; я ее боюсь. Сегодня я впервые живу в таком месте, откуда могу через окно смотреть на море, и спрашиваю себя, как я мог жить до сих пор.
Описывая мир, превращая в слова куски реальности, живой и неопровержимой, я их релятивизирую. Сделавшись письменным текстом, они окрашиваются некоей радужной красотой, связанной с их опциональным характером. Сельская местность не бывает опциональной; море иногда бывает.
Тумана недостаточно, в наши дни – уже нет; он недостаточно материален – его можно сравнить с поэзией. Облаков, вероятно, было бы достаточно, если бы мы жили среди них. Тумана недостаточно; но нет ничего прекраснее в этом мире, чем туман, поднимающийся над морем.
Уйти из XX века[40]
Литература – вещь совершенно бесполезная. Если бы от нее была какая‐нибудь польза, левацкая шпана, монопольно присваивавшая себе сферу интеллектуальных дебатов на протяжении всего XX века, не могла бы даже существовать. Век этот, к величайшему счастью, кончился;
настал момент в последний раз (по крайней мере, надо надеяться) обратить внимание на зло, причиненное “левыми интеллектуалами”; для этого лучше всего, наверно, сослаться на “Бесов”, опубликованных в 1872 году: здесь их идеология уже изложена полно и верно, ее злодеяния и преступления четко и ясно предсказаны в сцене убийства Шатова. Но какое, спрашивается, влияние интуитивные прозрения Достоевского оказали на ход истории? Ровно никакого. Марксисты, экзистенциалисты, анархисты и леваки всех мастей процветали и разносили свою заразу по всему миру