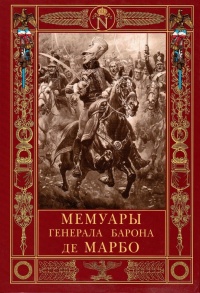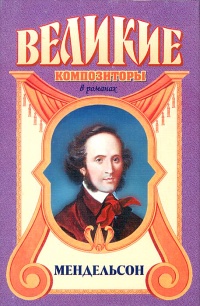оно как! Кротким агнцам твоим, господи, скоро по вкусу придется вражеская кровь. Я с радостью вспоминаю то, что мне рассказывали в Пон-де-Монвере о похоронах сего аббата в Сен-Жермен-де-Кальберт, — там люди в страхе разбежались, когда разнесся слух, что приближается отряд Мазеля, и провожавшие бросили тело преследователя нашего у открытой двери склепа. Господи Иисусе, вот и мы теперь прибегаем к огню и мечу, и пламя пожаров, сжигающее католические церкви, обращает в бегство черную скверну.{33}
Пусть же очищаются от нечисти наши Севенны!
Снова взошло солнце над сушилом, а я еще не продолжил прерванное свое повествование, но ведь надо было описать кончину Пьера Сегье, хотя бы для меня самого, ибо совершившееся будет теперь мне опорой и укрепит дух мой до самого конца.
* * *
После ужина, когда еще светло было на дворе, постучался к Пеладану отец Ля Шазет. Я так и вижу, как мы втроем сидим около очага, где пылают сухие виноградные лозы, хозяин мой готовит удочки, собираясь половить форелей, жена его прядет, а я зубрю «Школу землемеров»{34}, поглощенный изучением тригонометрии, каковая наука позволяет измерить площадь треугольника, если известны три его стороны.
Молодой кюре, отказавшись от подогретого вина, сообщил, что он пришел к судье посоветоваться, как бы поскорее справиться с упрямцами-гугенотами в нашем приходе. Он достал из кармана послание епископа Флешье, в коем тот настаивал на обязательном помазании елеем, и говорил, что гугенотов уже теснят со всех сторон и было бы просто неумно не воспользоваться сими благоприятными обстоятельствами и не принудить еретиков подчиняться при жизни сему требованию, ибо все равно перед смертью их помажут елеем. Затем кюре потребовал, чтобы мэтр Пеладан осведомил его, как обстоят дела в приходе, и заговорил так грозно, что у жены Пеладана веретено замерло в руках, а я весь похолодел.
Хозяин мой ответил, что сердцу его, конечно, очень дороги добрые люди Женолакской округи, однако ж он не столько опасается за их загробную вечную жизнь, сколько за жизнь земную в предстоящую зиму, обещающую быть чрезвычайно суровой и тем более страшной, что у всех в закромах хлеба негусто, — во-первых, потому, что земля у нас неплодородная да еще солнце рассердилось и наслало засуху, а помимо всего прочего, и по той причине, что наш повелитель вновь собрался на войну{35} и для сего опять требует с наших гор и золота, и молодых парней для своей рати. И поскольку никакими повелениями и заклинаниями нельзя заставить каштановые деревья, виноградники, нивы, стада коз и пчелиные рои поусердствовать ради победы преславного короля, то он, мэтр Пеладан, считает первым своим долгом посоветоваться с духовным пастырем, какими средствами можно было бы помочь нуждающимся женолакским прихожанам. Молодой попик спросил старика судью, уж не издевается ли тот над его саном.
Пусть народ в Севеннах самый нищий во всем королевстве, пусть он обнищает еще больше, но приписывать нищету засухе или войне могут лишь маловеры. Только они не видят в сих бедствиях божественное правосудие, карающее еретиков. Первую помощь следует оказать им сильно действующими целительными средствами против упрямства — надо им хорошенько прочистить мозги и пустить кровь. И в заключение он крикнул:
— Богом клянусь, виселицы и колесование не могли за сто лет уничтожить ересь только потому, что ее следовало убить в зародыше, в детях убить!
Но у меня на сердце был не страх, а радость: уж очень он разъярился на нас, севеннских ребят, — и такие мы, и сякие, упрямые, неблагодарные, не поддаемся благотворному воспитанию в правилах римско-католической религии, высмеиваем ее догматы, а заботы святой матери-церкви считаем злыми притеснениями, — словом, дети гугенотов с самого нежного возраста еще хуже, чем их отцы.
Духовенство в Севеннах держится настороже, ибо оно достаточно хорошо осведомлено о волнениях в Дофине, а затем в Виварэ, где дети стали фанатиками и столь ярыми проповедниками, что даже взрослые стекались на их молитвенные сходы.
Хозяин мой вскользь бросил слово в защиту нашу: к счастью, мол, безумие, овладевшее детьми, миновало наш Лозер, но тут белокурый попик выругался так крепко, что непристойную его брань не подобает мне записывать, и, указывая на меня, воскликнул:
— Поглядите-ка на него. Ему-то кое-что известно!
Мэтр Пеладан и его супруга обернулись, а на меня ни с того ни с сего напал глупый смех.
— Погоди! Ты под розгами смеяться не будешь!
Даю руку на отсечение: «Сынов Израиля» никто не предал, — ласковый попик сам сумел мало-помалу выпытать у них наши тайны и все узнал. Он знал, что мы читали священное писание, Библию, и не в латинском ее переводе, сделанном святым Иеронимом, ибо латыни мы не были обучены, а читали ее по-французски — на языке грубом, мирском, срывающем с Библии покров непонятности; он знал, что гнусное кощунство совершалось многократно и всегда по моей вине! Следовательно, я должен быть наказан: завтра меня всенародно будут пороть розгами.
Опомнившись, изумленный судья и его супруга, едва не лишившаяся чувств, принялись уговаривать его, обещали впредь строго следить за мной, обещали все прекратить, убеждали, что все это пустяки, ребячье недомыслие; они возмущались, негодовали, ссылались на бесчисленную свою католическую родню, — все было как об стену горох. Ля Шазет издевался над доводами Пеладана, называл забавной нежданную горячую его защиту еретиков, неуместную для служителя правосудия, — как видно, он тридцать лет потакал им при содействии покойного кюре, такого нее потатчика, кап он; если у Пеладана весьма благочестивая родня, то зря он хвастается, ибо они-то уж никак им гордиться не могут; а если я прихожусь Пеладанам каким-то дальним родичем (еще неизвестно, правда ли это, да-с, неизвестно!), то я преступник вдвойне: не только еретик, но еще и вероотступник. И вот что удивительнее всего: человек, поставленный на малый пост в управлении королевством, даже совсем незначительный, наглым образом хулит законы своего повелителя, — это весьма странно, чтобы не сказать больше! Кюре Манигас, упокой господи его душу, как видно, был туг на ухо, но настал час пробуждения, ибо Женолакский приход попал теперь в бестрепетные руки.
Три месяца молодой попик гладил всех бархатной кошачьей лапкой, и у него уж терпения не хватало сдерживать свою злобу. Теперь он выпустил наконец когти и чуть не визжал от удовольствия: через неделю должен прийти целый полк драгун, а в нем достаточно солдат, чтобы поставить их в каждый гугенотский дом, и все придет в порядок: девчонок в монастырь, а парней на войну! Он радовался участи Этих юношей и,