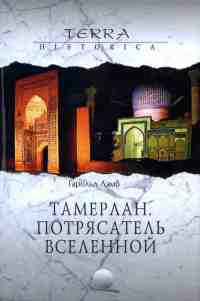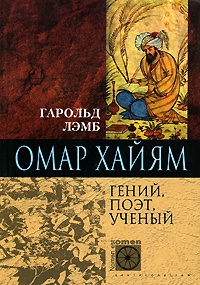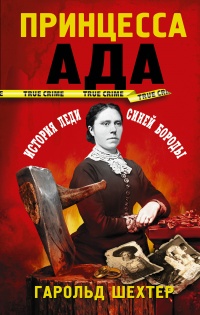Подлинные канонизаторы Данте — его литературные потомки, а это не самая богомольная компания: Петрарка, Боккаччо, Чосер, Шелли, Россетти, Йейтс, Джойс, Паунд, Элиот, Борхес, Стивенс, Беккет. Данте — это, наверное, единственное, что у этих двенадцати есть общего, хотя в своем поэтическом пакибытии он превратился в двенадцать разных Данте. Писателю его силы это вполне приличествует; сколько Шекспиров — примерно столько же и Данте. Мой Данте все сильнее отклоняется от сугубо правоверного Данте, созданного современным американском литературоведением, в данном случае представленным Т. С. Элиотом, Френсисом Фергюсоном, Эрихом Ауэрбахом, Чарльзом Синглтоном и Джоном Фреччеро. От итальянцев идет альтернативная традиция — ее начал неаполитанский мыслитель Вико, продолжили поэт-романтик Фосколо и литературовед-романтик Франческо де Санктис, а кульминации она достигла в лице эстетика начала XX века Бенедетто Кроче. Если соединить эту итальянскую традицию с некоторыми наблюдениями Эрнста Роберта Курциуса, видного современного немецкого историка литературы, то возникнет альтернатива Данте Элиота-Синглтона-Фреччеро — поэт-пророк, а не аллегорист-богослов.
Вико сильно, но и очень удачно преувеличил, когда сказал о Данте: «Не знай он латыни и схоластики, он был бы еще более великим поэтом, и, быть может, тосканский язык дал бы нам нового Гомера». Тем не менее суждение Вико отрадно, когда блуждаешь в темном лесу богословских аллегорий, где самой приметной особенностью «Комедии» оказывается отражение в ней отхода Данте от поэзии и, предположительно под влиянием Августина, обращения к вере — вере, которая вбирает в себя воображение и подчиняет его себе. И для Августина, и для Фомы Аквинского поэзия была детской забавой и заслуживала не больше внимания, чем прочие детские дела. Что бы они подумали о Беатриче из «Комедии»? Курциус проницательно замечает, что Данте изображает ее не только средством своего спасения, но и всеобщим прибежищем всякому доброму человеку. Данте обращается к Беатриче, а не к Августину, и Беатриче дает в проводники Данте Вергилия, а Августина не дает.
Очевидно, что Данте предпочитает Беатриче, свое собственное творение, аллегориям других богословов, и столь же очевидно, что Данте не желает выходить за границы, положенные им своему творчеству. Августин с Аквинатом имеют к богословским представлениям Данте такое же отношение, какое имеют к его поэзии Вергилий и Кавальканти: все предшественники оказываются умалены поэтом-богословом, пророком Данте, автором последнего завета — «Комедии». Если хотите читать «Комедию» как богословскую аллегорию, то начинайте с единственного богослова, по-настоящему важного для Данте: самого Данте. «Комедия», подобно всем величайшим каноническим произведениям, уничтожает различие между религиозной и светской словесностью. И сегодня для нас Беатриче — это аллегория слияния религиозного и светского, союза пророчества и стиха.
Как человек и поэт, Данте выделяется гордыней, а не смирением, самобытностью, а не приверженностью традиции, чрезмерностью, или пылом, а не сдержанностью. Пророческая установка у него — на посвящение, а не на обращение (если воспользоваться соображением Паоло Валезио, выделившего герметические, или эзотерические, аспекты «Комедии»). К Беатриче не обращаешься, она не обращает тебя в истинную веру; путь к ней — это посвящение, потому что она, как первым сказал Курциус, — средоточие частного гнозиса, а не церковного универсума. Помимо всего прочего, Беатриче направляет к Данте Лючия[103], малоизвестная сицилийская святая — настолько загадочная, что исследователи творчества Данте не могут сказать, почему Данте выбрал именно ее. Джон Фреччеро, лучший из ныне живущих специалистов по Данте, пишет, что «в каком-то смысле цель всего путешествия — написать поэму, прийти туда, где Лючия и все, пребывающие в благодати».
Да, но почему же все-таки Лючия? На этот вопрос ни в коем случае нельзя ответить: а почему бы и нет? Лючия Сиракузская жила и приняла мученическую смерть за тысячу лет до Данте и ныне была бы совершенно забыта, не имей она эзотерического значения для Данте и его поэмы. Но нам об этом значении не известно ничего; мы не знаем даже, кто та величайшая женская душа, пославшая Лючию к Беатриче. В этой «Благодатной Жене»[104] обычно видят Деву Марию, но Данте ее не именует. Лючия названа «врагом жестоких»; можно предположить, что это определение применимо ко всем Благодатным Женам. У исследователей повелось приделывать к ней отвлеченное обозначение «просвещающая благодать»; но и оно не кажется единственно применимым к этой сицилийской мученице, чье имя означает «свет». Я вхожу в эти подробности, чтобы подчеркнуть, на каком возвышенном произволе настаивает Данте. В «Комедии» есть тайный предмет; несомненно, поэме присущи герметические аспекты, и их никак не отнесешь к второстепенным, так как они сконцентрированы вокруг Беатриче. Читая «Комедию», мы все время возвращаемся к образу Беатриче, не столько потому, что она — в некотором роде Христос, сколько потому, что она — идеальный предмет сублимированного вожделения Данте. Мы не знаем даже, существовала ли Беатриче Данте в действительности. Если существовала и была дочерью флорентийского банкира, то в контексте поэмы это маловажно. Беатриче «Комедии» важна не потому, что она — намек на Христа, но потому, что она — идеализированная проекция неповторимости самого Данте, точка, с которой он видит свое творение как его автор.
Прошу разрешить мне одно кощунство — сближение Данте с Сервантесом ради сравнения их главных героев: Дон Кихота и пилигрима Данте. Беатриче Дон Кихота — это заколдованная Дульсинея Тобосская, в которую его фантазия превратила крестьянку Альдонсу Лоренцо. Дочь банкира Беатриче Портинари относится к Дантовой Беатриче так же, как Альдонса к Дульсинее. Правда, иерархия Дон Кихота — светская: Дульсинея попадает в космос Амадиса Галльского, Пальмерина Английского, Рыцаря Феба и подобных им славных мифологических рыцарей, тогда как Беатриче возносится в сферы святого Бернарда, святого Франциска и святого Доминика. Если ставить поэзию выше догмы, то различия тут может и не быть. Странствующие рыцари, как и святые, — это метафоры для стихотворений и метафоры, используемые в стихотворениях, и небесная Беатриче в рамках католицизма как исторического института не более и не менее значима и реальна, чем заколдованная Дульсинея. Но триумф Данте и заключается в том, что мое сравнение кажется каким-то кощунственным.
Возможно, Данте действительно был благочестив и правоверен, но Беатриче — это его образ, а не церковный; она — часть частного гнозиса, изменение, внесенное поэтом в схему спасения души. «Обращение» к Беатриче может состояться и под влиянием Августина, но едва ли это — обращение к Святому Августину, так же как служение Дульсинее Тобосской не означает поклонения Изольде Белые Руки. Ни до, ни после Данте не было поэта беззастенчивее, агрессивнее, горделивее и смелее, чем он. Он навязал нам свое видение Вечности и он имеет очень мало общего со своими многочисленными набожными и учеными толкователями. Если все это уже есть у Августина или Фомы Аквинского, то давайте читать Августина или Фому Аквинского. Но Данте хотел, чтобы мы читали Данте. Он писал свою поэму не для того, чтобы пролить свет на унаследованные им истины. «Комедия» сама должна была быть истиной, и мне кажется, что детеологизировать Данте — такое же пустое занятие, как и теологизировать его.