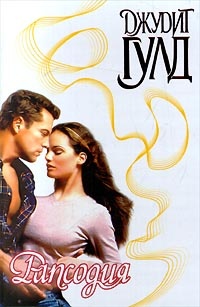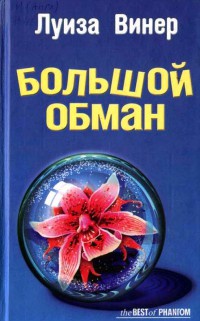Первого, кого Маша увидела, выйдя за калитку, был Женька. Он шел к даче. Ни тени смущения: расправленные плечи, высоко поднятая голова – все, как всегда.
Дик неизвестно откуда выскочил ему навстречу.
– Монмартик! Наконец-то! – завопил он. – Куда ты пропал? Мы тут все переволновались.
– Ведро выносил.
– Серьезно. Где ты ночевал?
– У девицы, – бросил, не глядя на него, Женька.
– У какой девицы? – опешил Дик.
– Тебе адрес дать?
Дик прикусил язык, но шел рядом, не отставая от Монмартика.
– Знаешь, у Гарьки до сих пор щека красная. Что-то уж больно здорово ты ему саданул.
Монмартик остановился, прищурил красные моргающие глаза, упершись взглядом в Дика.
– Жаль. Ну, считай, что половина твоя. Тоже заслужил.
На этот раз Дик обиделся окончательно и отступил. Маша наблюдала за ними, прислонясь к калитке. Женька остановился перед ней, не дойдя нескольких шагов.
– Что ты на Дика набросился? Он-то что тебе сделал?
– А ты за него не переживай. Он ведь не спрашивает, за что.
– Ой, Жень, как ты мне не нравишься, когда ты такой.
– А я разный, но всегда один и тот же. Давай не будем продолжать, а то мы еще и с тобой поссоримся. Как ты думаешь, если я сейчас приду, Наташка меня не выгонит?
– Не выгонит. Ты знаешь, что девчонки ходили тебя ночью искать?
– Правда? Ну, вы даете. Не побоялись?
– Боялись. За тебя. И почему только девчонки так к тебе относятся?
– Видимо, есть за что. А ты почему? – Женька первый раз улыбнулся и, наконец, подошел к ней.
Маша замахала на него руками:
– Да ну тебя. Никак я к тебе не отношусь. Ты погоди радоваться. Тебе еще всыпят за все твои художества.
3 ноября, пятница
Как уже давно доказано, за благие поступки приходится расплачиваться. Во время вчерашнего вечернего пропесочивания Монмартика, происходившего на лежанках зала судебных заседаний в девичьей, главный обвиняемый заснул на руках у Маши в самый разгар споров о праве человека защищать свое достоинство всеми доступными методами. Маша пожалела его будить и в награду сама провела ужасную ночь от духоты и теснотищи.
Женька заболевал. Вчера он вернулся промокший и с заледеневшими руками-ногами. Теперь он начинал кашлять. Вечером Маша растерла его водкой, пока народ ходил на станцию провожать Гарика, уезжавшего в свой Нижний. После его отъезда Маша вздохнула облегченно, хотя больше никаких намеков на конфликт между мальчишками не возникало. Водку для растирания притащила Наташка из одной ей ведомого дедушкиного тайника. Сашка Громила заявил, что растирание должно быть внутреннее, а не наружное, но Монмартик тут же такой вариант напрочь отмел:
– Отвали потихоньку в калитку!
Отказ не произвел на Громилу никакого впечатления, и он попытался чуть ли не насильно влить в больного «лекарство»:
– Для сугреву и поправки пошатнувшегося здоровья надо.
– Сказал, не буду, не дави, бесполезно. Если мне что-то всерьез не нравится, можешь хоть в штаны надуть от натуги – мне на это начхать – все равно не сдвинешь.
– Во, опять заослился. Ты ж даже не пробовал.
– И не стану. Не приставай.
– Не-е, Монмартик. Я так считаю, что хоть по разу надо все попробовать.
– Это не ты так считаешь. Это есть такая удобная отмазка для слабовольных. От неразборчивости. Ну, давай тогда по разику подцепи сифилис или убей человека…
– Ну, ты пошел вразнос. Все доводишь до абсурда. Сифилис совсем не обязательно, а вот со вторым… Есть особи, которых я бы прибил и не поежился.
– Видишь. Значит, важно только одно: кто какие границы себе обозначил. Но если уж ты сам зафиксировал границу, будь добр ее соблюдать. Или это уже не граница, и слово твое – колебание воздуха.
– Да брось ты. Спонтом сам никогда не нарушаешь? – не очень-то поверил Громила. – Будь проще, будь как все. И не зарекайся.
– Зарекаюсь и как все не буду, – поставил точку Монмартик.
– Будущее покажет…
Женьку растерли водкой до варено-раковой красноты. Единственное, что смущало Наташку, как придется объясняться с дедом, что спиртное никто не пил, а оно пошло на доброе дело. Женьку укутали и уложили на дамской половине, где спальные места на день не собирались, предварительно закупорив на подлодке форточку и проверив, чтоб она не давала течь.
Маша проснулась в очередной раз в невыносимо неудобной позе. Она присела на лежанке и стала массировать затекшую руку. Из-за щели в прилипших к отпотевшему стеклу занавесках просачивался пока еще блеклый натуральный утренний свет. Рядом, по-детски безмятежно-трогательно обняв во сне подушку, спал Женька. Маша не удержалась и провела ладонью по его вихрам. Она огляделась. По сравнению с тем, как теснились девчонки, Женька лежал просто королем. Один он занимал больше места, чем Маша с Ингой вдвоем. Маша попыталась его подвинуть ближе к стенке, но он замотал, не просыпаясь, головой, пробормотал что-то невнятное и улегся снова на старое место. Маша улыбнулась. Неожиданно Женька открыл глаза и посмотрел совершенно ясным и ничего не понимающим взглядом. Маша сидела, обхватив колени и положив на них голову, и наблюдала, как откуда-то издалека к Монмартику возвращается сознание.
– Ма-ашенька… – наконец нежно протянул он.
– Т-с-с, – она приложила к губам палец.
Он покосился на спящих девчонок и прикрыл веки, показывая, что понял. И вдруг удивленно чуть слышно зашептал:
– Ой, это что же, я всю ночь здесь проспал?
Маша улыбнулась и кивнула.
– Ничего себе… Как же я заснул? Мы вроде говорили, говорили… Даже не помню, на чем я отключился. Я до этого спал двенадцать часов… за четверо суток.
– Что же ты по ночам делал?
– Придет время – узнаешь, – загадочно улыбнулся Монмартик. – И долго еще судебное заседание вчера продолжалось?
– Пока не поняли, что воспитывать уже некого.
– Ребята на меня здорово сердятся?
– Вчера сам мог видеть. Ты для этого сделал все от тебя зависящее. Инга, по-моему, готова была вывести тебя в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб. А Оля, наверное, задушила бы собственными руками.
– Кажется, я Ольке тогда что-то лишнее наговорил. Жаль. Но она слишком рьяно бросилась защищать Гарика. К тому же еще загнула про его благородство. Я отсутствующих не обсуждаю. Вот ей и досталось.
Когда на Женьку пытались наехать, порой не выбирая особо парламентские выражения и не отслеживая уровень громкости, он, возражая, но не оправдываясь, никогда не переходил на тон нападавшего. Чем тот становился громче, яростнее, даже грубее, тем намеренно невозмутимее и тише отвечал Монмартик. Содержание могло быть сколь угодно резким, но форма от этого не зависела. Он не изменял себе, как бы его не провоцировали окружающие.