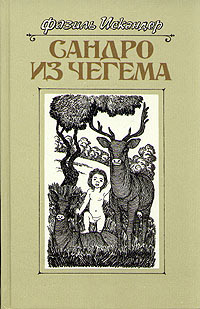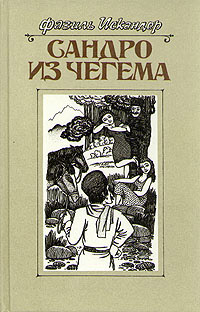Разумеется, меня заставляли писать эти письма, чтобы разжалобить его.
И мы даже ответ получили из канцелярии Берия. Обещали разобраться. Но никто ни в чем не разобрался, а потом в начале войны взяли и другого дядю. Из моих вообще никто не вернулся домой. Фронт был куда добрей. С войны вернулись не все, но многие.
Уже в хрущевские времена один большой физик и, по-моему, добрый человек сказал мне, что Берия был очень умным. Он общался с ним, потому что работал над атомной бомбой. Над Проблемой, так они это называли для секретности.
— Почему вы так решили? — спросил я.
— Был такой случай, — сказал он, — Берия передал мне работу одного физика, представ-ленного на Сталинскую премию. «Посмотрите, — сказал он, но, по-моему, на премию не тянет».
Я познакомился с работой. Она была вполне квалифицированной, но на премию и в самом деле не тянула. Во время следующей встречи я сказал ему: «Лаврентий Павлович, работа действительно на премию не тянет, хотя вполне добросовестна. Но вы же не физик, как вы это поняли?»
Он пожал плечами: «Не был привлечен к Проблеме, потому я так и решил».
Согласитесь, просто и умно. Он знал, что все талантливые физики привлечены к работе над атомной бомбой. А раз этот физик не привлечен, значит, он не может быть столь талантливым, чтобы создать работу на уровне Сталинской премии.
— А почему вы не подумали, — возразил я, — что он здесь скорее проявил чуткость к своей карьере. Скажем, дадут этому физику премию, а Сталин, узнав, что его не привлекли к Пробле-ме, вдруг спросит: «Почему забыли такого талантливого человека?» Маловероятно, риск на волосинку, но он и этого риска не хотел.
— И так может быть, — согласился простодушный физик.
Вообще, все мы склонны проявление обыкновенной здравости у больших (машинка случай-но напечатала «у больных») политических деятелей принимать за признак выдающегося ума. Впрочем, разочаровавшись, иногда впадаем в обратную крайность. Уже всё сделанное ими воспринимаем как чудовищную глупость.
Но вот гораздо более интересная вещь. Мне ее рассказывал старый журналист. Конечно, за абсолютную достоверность не ручаюсь, но похоже на правду.
Во время известного «мингрельского дела» как будто бы Маленков возвращал Сталину список намеченных к аресту партийных деятелей Грузии. Представители самого высокого эшелона власти должны были выразить согласие с этим списком или якобы несогласие. Обычный уголовный прием — замазать всех.
Сталин, просматривая список, вдруг заметил, что среди намеченных к аресту появилась фамилия Берия.
— А Берия как сюда попал? — спросил он у Маленкова.
— Он сам себя вписал, товарищ Сталин, — ответил Маленков.
— Когда надо будет, сами возьмем, — сказал Сталин и вычеркнул фамилию Берия.
Согласитесь, сильный психологический ход со стороны Берия. Он понимал, что «мингрель-ское дело» в конечном итоге затеяно против него. Подставляясь таким способом раньше конца затеянной комбинации, он, конечно, рисковал, но одновременно усиливал шансы разрушить комбинацию.
Сталин знал, что у Берия тоже огромная власть, и если он так открыто высовывается, значит, надеется на свою силу. Надо подождать. Придумать новую комбинацию. Но не успел. Берия, видимо, его тут обштопал.
Помню, во время знаменитого «дела врачей» стою у стенда на одной из московских улиц и читаю в «Правде» статью о кошмарных преступлениях врачей. И вдруг последний абзац — стилистически нелепый и странный даже в этой дикой статье. Автор в конце говорит: «Это всё хорошо. Но куда смотрели органы, когда всё это творилось?»
Я читаю и перечитываю последний абзац с этими словами и никак не могу понять автора и редактора главной газеты страны. Если сознание еще кое-как принимало легкую критику органов госбезопасности, то как можно было понять такую фразу: «это всё хорошо»? Что ж тут хорошего, когда врачи-убийцы уничтожают пациентов? Я тогда так и не разобрался в этом безумии, но в памяти навсегда застряла концовка статьи.
И только гораздо позже, когда стали просачиваться смутные сведения о желании Сталина в последние годы жизни расправиться с Берия, да и не только с Берия, я вспомнил эту статью. Я уверен, что ее перед публикацией посылали Сталину и эту концовку он приписал сам. Править его, конечно, никто не смел. Когда он написал «это всё хорошо», он, видимо, имел в виду не зловещие события, описанные в статье. Их скорее всего не было. А если они и были, то он сам же их организовал. Он имел в виду работу журналиста, изложение. Мол, всё это так (всё это хорошо), но пора назвать виновников из органов, которые прошляпили врачей-убийц. Тихий, но грозный рык в сторону Лубянки. Кстати, фраза, если вслушаться в нее, выдает и некоторое нетерпение Сталина. И кто его знает, не оказалось ли это нетерпение роковым для него?
А ведь если бы он внимательно прочитал Осипа Мандельштама перед тем, как расправиться с ним окончательно, он вспомнил бы пророческую для этого случая строчку:
Не торопиться — нетерпенье роскошь.
Кстати, сам я сейчас вспомнил один эпизод как раз этого времени. Я учился в библиотечном институте. Кампания против космополитизма была в разгаре.
Как-то в вестибюле института я увидел в толпе хохочущих студентов знакомого еврея-библиографа. Он и раньше захаживал к нам в институт. Он был калека.
Сейчас с жутковатым весельем, покачиваясь укороченными ногами на костылях, как бы демонстрируя полную свободу и счастье внутри костылей, он рассказывал притчу о своей жизни.
Он работал библиографом в одной большой московской библиотеке. После отпуска, придя на работу, он узнал, что его под благовидным предлогом сократили. При этом он легко догадал-ся, что старший библиограф, его непосредственный начальник, с которым он и раньше не ладил, приложил к этому руку. Он тыр-пыр, ринулся во все инстанции — ничего не помогает. Попытал-ся устроиться в другую библиотеку — никто не берет.
Тогда он вспомнил, что в детстве, живя в Биробиджане и болея тяжелой формой полиомие-лита, написал Сталину письмо. Дело в том, что врачи рекомендовали повезти ребенка для лечения в Крым. Но у родителей не было денег на такую поездку. И тогда кто-то надоумил их, чтобы мальчик обо всем написал Сталину. И он написал.
Ноги рассказчика особенно высоко взлетели между костылей.
И действительно, через некоторое время мальчика с матерью на государственный счет отправили в Крым. И вот теперь, отчаявшись получить работу, он снова написал Сталину. Он рассказал ему о своих мытарствах и напомнил, что Сталин ему уже один раз помог.
— Вы мне уже один раз спасли жизнь, написал я ему, — рассказывал библиограф, неутоми-мо раскачиваясь на скрипучих костылях, — спасите еще раз!
Пока он рассказывал, перед моими глазами встало видение: Сталин, улыбаясь в усы, раскачивает на качелях костылей калеку мальчика. Выше! Выше! Еще выше!
И письмо дошло. И Сталин спас. Через некоторое время нашему библиографу позвонил директор библиотеки, где он раньше работал, и срочно вызвал его к себе. Как бы потрясенный всей этой несправедливой историей, которая как бы незаметно мелькнула мимо него, директор предложил ему с завтрашнего дня занять место старшего библиографа библиотеки.