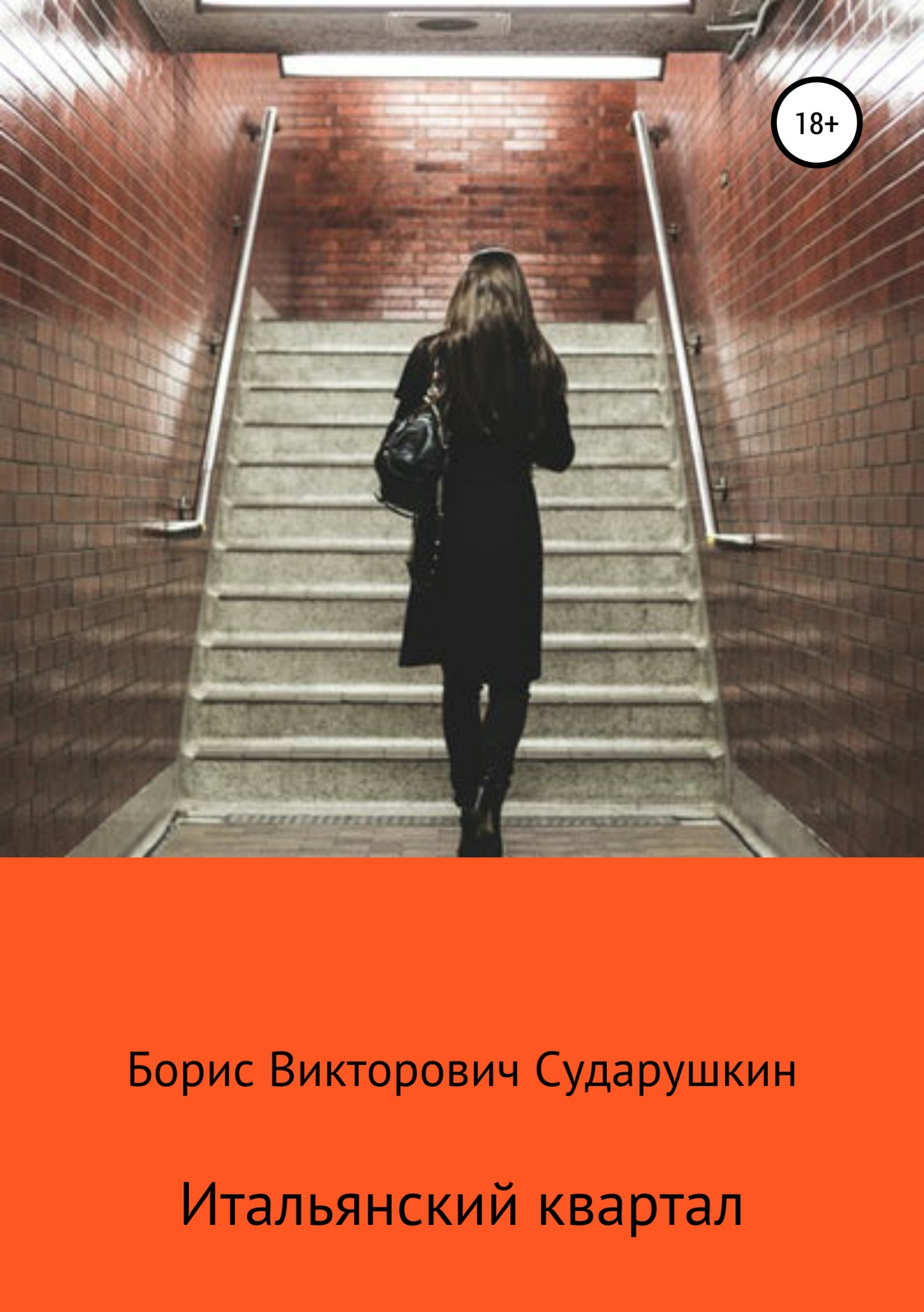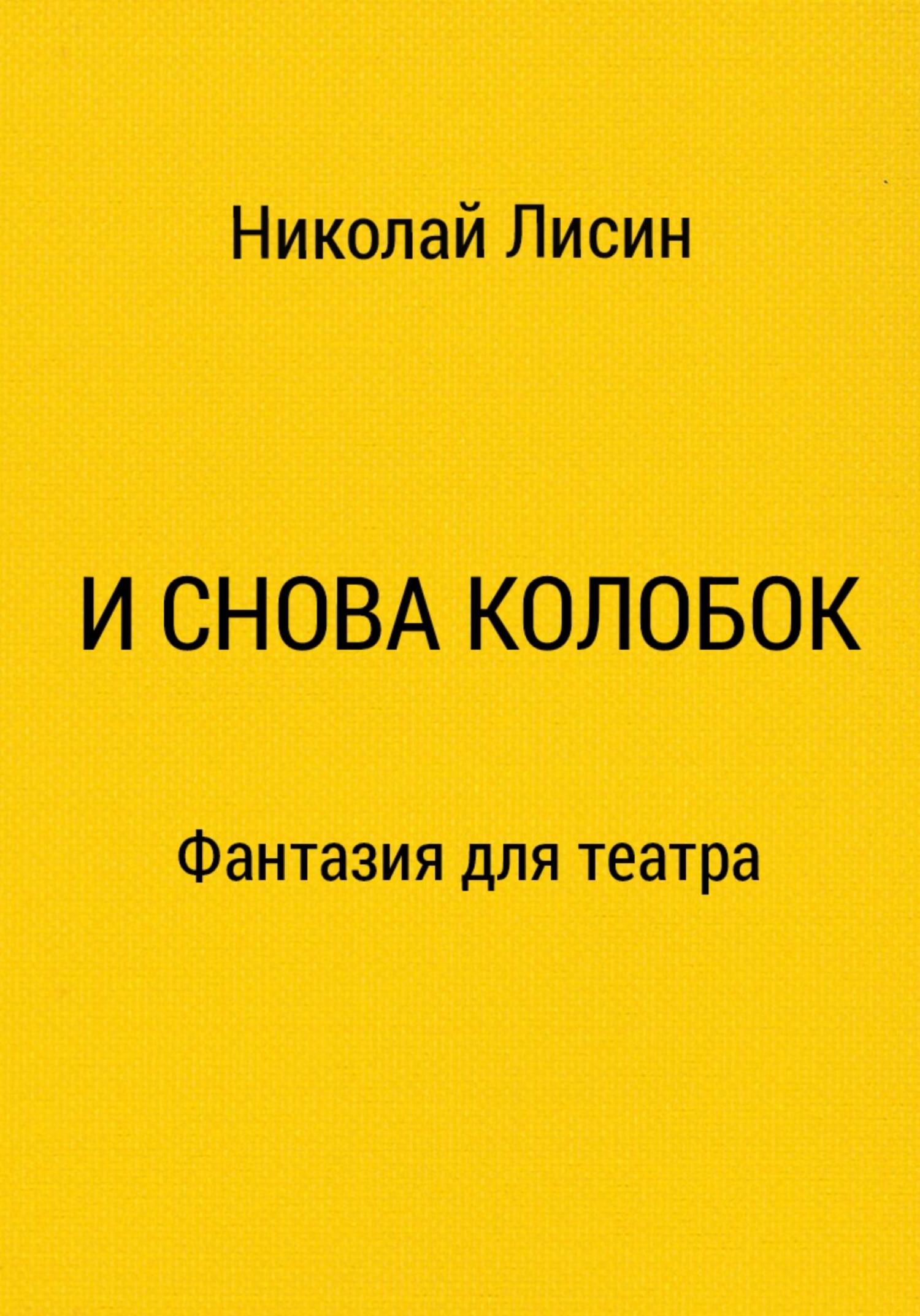что прислуга все еще стоит в прихожей, хотя было уже около восьми часов. Не желая показывать отчаяние недружелюбно настроенным слугам, она, приоткрыв дверь спальни, спросила, что случилось. Госпожа еще не спустилась. Фройляйн поинтересовалась, стучали ли в дверь ее комнаты. Никто не осмелился.
Фройляйн решилась на шаг, которого хотела избежать, чтобы ее тайный уход из дома не вылился в безобразный скандал. Она оделась, вытерла слезы и на негнущихся ногах, не глядя на стоявших в прихожей слуг, прошла к спальне ма…
Вместо того чтобы мысленно произнести последнее, теперь невозможное слово, она беззвучно всхлипнула и содрогнулась всем телом. Подошла к двери и постучала. Когда на ее многократно повторенное шепотом «госпожа Цвиттау» никто не ответил, она медленно нажала на ручку и заглянула в комнату. Вдова ротмистра лежала в постели и будто спала. Ее лицо было воскового цвета и отливало голубизной. Фройляйн сразу все поняла, она догадалась, еще не открыв дверь. Подтвердившееся подозрение принесло ей не только удовлетворение, но и новую сильную боль, хотя прошлой ночью она уже испытала достаточно. Всё, казалось, обрело смысл, и фройляйн начала действовать с деловитостью, которой раньше в себе не замечала. Она послала за врачом и, когда он приехал и начал осмотр, молча стояла рядом, страшно бледная и одетая в черное.
– Остановка сердца вследствие тромбоза коронарной артерии, – вынес врач вердикт, убрав стетоскоп. – Я выпишу свидетельство о смерти и, если пожелаете, помогу уладить все формальности.
Он поклонился фройляйн и пожал ей руку в знак соболезнования.
Кремация стала последним общинным ритуалом в деревне и окрестностях, о чем не догадывались даже самые прозорливые из присутствовавших. На кладбище перед фамильным склепом Цвиттау высились горы венков. Съехались дальние родственники (те, кто не сражался за отечество), аристократы и крестьяне смешались как перед кладбищенскими воротами и в церкви, так и на поминальном обеде, который накрыли в большом амбаре и на который пригласили всю деревню. Таков был обычай. Пастор и бургомистр восхваляли веру и общественную сознательность усопшей. Один из кузенов фройляйн, который когда-то был представителем округа в рейхстаге, превозносил семейные заслуги вдовы ротмистра, а в самом конце церемонии старший из слуг склонился над могилой и произнес, подкрепляя слова действием:
– Возлагаю этот венок от имени всей прислуги.
Фройляйн встретила братьев, их жен и детей непривычно сдержанно, но ее ни о чем не спрашивали. Все знали, что мать и дочь были очень близки, и, поскольку никто из членов семьи не заметил, как изменилось в последние недели отношение матери к дочери, винили в холодном приеме боль от потери.
Вечером братья позвали сестру на семейный совет. Имением стало некому управлять, и нужно было решать, намерена ли сестра взять на себя эту непростую обязанность, по силам ли ей это, или лучше найти управляющего. Ко всеобщему удивлению, которое тут же сменилось большим скепсисом, фройляйн заявила, что хочет попробовать. Пусть братья спокойно занимаются своими делами. В доме и в поместье она сама будет распоряжаться наследством. Для беспокойства нет причин: за последние сорок лет у нее было достаточно возможностей изучить, как мать управлялась с работниками, и фройляйн будет делать все так, как делала вдова ротмистра. Каждые четыре недели, в последние дни месяца, она будет представлять подробный отчет обо всех доходах и расходах, чтобы выручку можно было поровну делить между ней и братьями.
На первых порах этим удовлетворились. Решили подождать, как сказанное осуществится на деле, и через год определиться, что делать дальше.
В последующие недели фройляйн полностью посвятила себя новым обязанностям. Она руководила прислугой, как прежде руководила приемная мать, и, хотя со временем ей пришлось сталкиваться с участившимся неповиновением, в первую очередь работников-поляков, фройляйн справилась и отослала братьям первый отчет. Те остались довольны. Печальные мысли о погибшем женихе всё меньше занимали ее, и она с головой ушла в хлопоты, которых требовало управление имением.
Как и каждый год, осенью сложили в амбар зерно, собрали урожай с фруктовых деревьев, запасли в лесу дрова к зиме; как обычно, дули сильные ветра, под которыми гнулись деревья, сбрасывая листву, чтобы не сломаться под снегом, который вот-вот пойдет. За той осенью, как и всегда, пришла морозная зима.
☨
Час ночи. Фройляйн стоит в спальне у окна. Она только что проснулась. В одиннадцать она легла спать, смертельно уставшая, как обычно, и, как обычно, сразу уснула. За день фройляйн выматывается, того не замечая. Чувствует усталость, только когда подводит итоги прошедшего дня и до мелочей продумывает задачи на следующий. Затем тут же засыпает и вскоре просыпается, разбуженная сомнениями. Так происходит с тех пор, как она взяла на себя ответственность за имение. «Вот бы сейчас поскучать», – думает она порой, ложась вечером в кровать. И тут же замечает, что ее одолевает сон, прерывая мысли. Раньше фройляйн часто задавалась вопросом: «Почему я все время скучаю?» Теперь она избавилась от скуки. На время.
Фройляйн дыханием прогрела участок на оконном стекле, покрытом морозными узорами, и смотрит наружу. Тишина, холод, оцепенение. «Мертвое царство, – думает она, – вокруг мертвое царство». Снег, а над ним полумрак и серость. Все тихое и серое, все оцепенело под блеклой луной: навес, орешник, изгородь, яблони, садовая скамейка, груша, бук, терраса, куст бузины, садовый домик, кусты, винтовка, плечи, солдат. Когда смеркалось, фройляйн посмотрела на термометр, висящий у входа в главный дом, минус восемнадцать. Обычная температура для 11 января. Жгучий холод, но фройляйн не мерзнет. Тревога, которая мешает уснуть, согревает.
«Странно, – размышляет она, – что я все еще помню слово „винтовка“, так говорил старый лесник, он давно умер. Он всегда казался мне таким сильным и надежным, когда приносил фазана или куропатку. Старый лесник знал, что приемная мать очень любила мясо фазанов и куропаток. Приемный отец никогда не называл ружье винтовкой, он всегда говорил „стреляющая сабля“. И грубо хохотал». Фройляйн вспоминает, что ее всегда пугал этот смех. Более того, он был ей противен. «Почему я только сейчас это поняла?» Она думает: «Сегодня я опять все сделала правильно, это точно, и все равно сомневаюсь: а вдруг можно было лучше?»
Солдат пошевелился. Он снимает винтовку с плеча. Слева в поле зрения появляется второй. В восточной части сада через изгородь перемахивает еще один. Тоже с винтовкой, тоже серый и безмолвный. Фройляйн стоит за закрытым окном, не понимая, почему солдаты двигаются, когда все вокруг застыло, и слышит звуки разговора. Разобрать слова не получается, они звучат приглушенно. Как сквозь вату. Слева внизу, прямо у главного входа, фройляйн