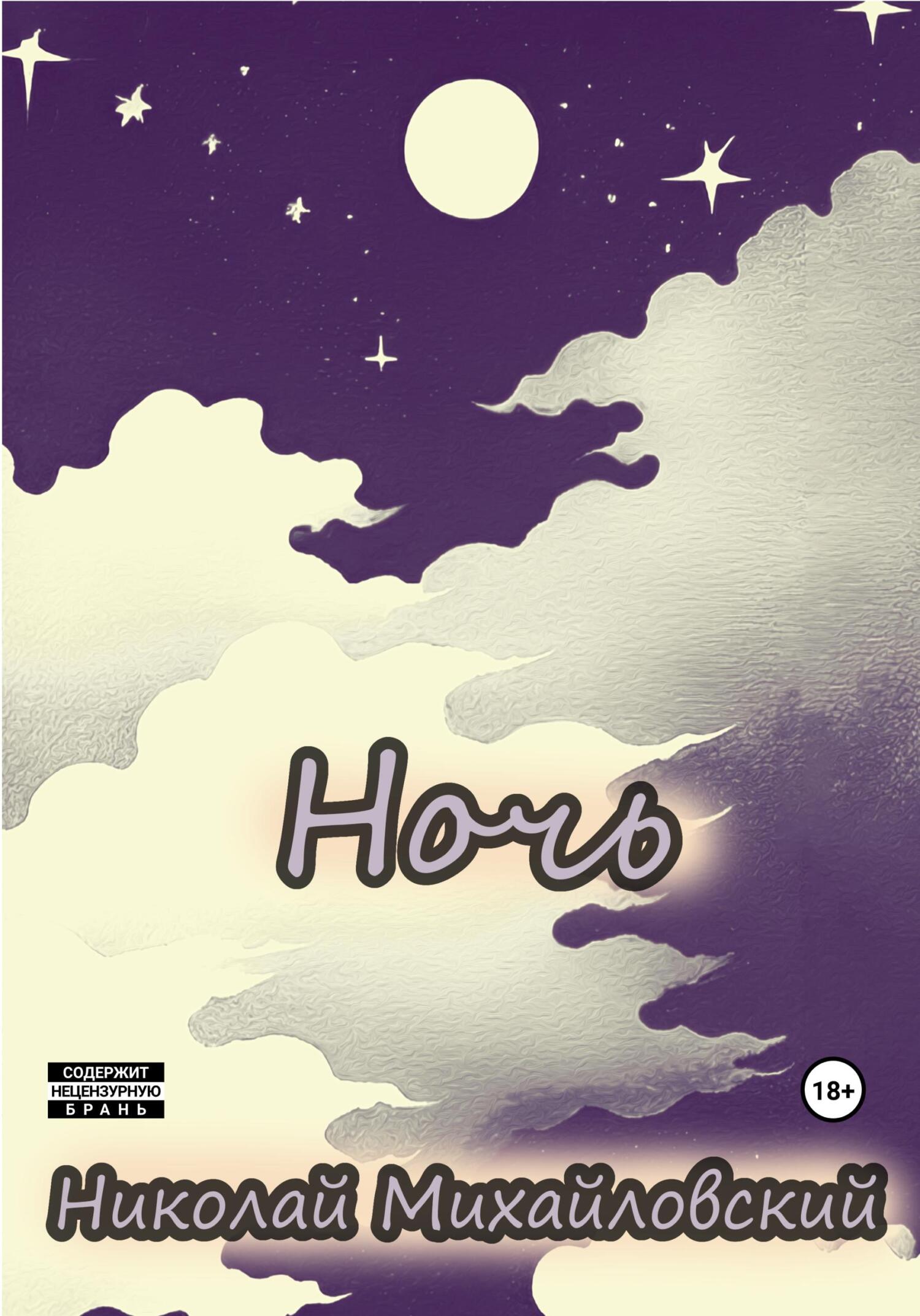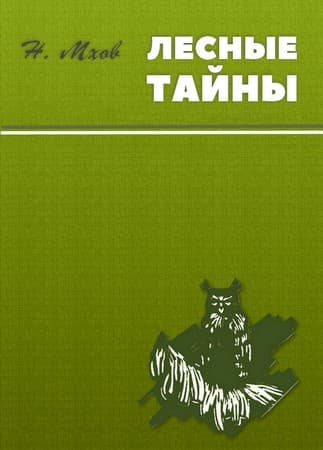и голода, значит, дела их настолько плохи, что они не остановятся вообще ни перед чем.
Не меньше совести меня мучала внезапность происходящего. Ещё вчера утром я проснулся в своей кровати, в своей комнате, в своём доме, чьё тепло ещё хранило моё тело, — а нынче я беглец, и меня скоро начнут искать. Родных же моих, проснувшихся в соседних комнатах, конвоируют в тюрьму. Я спрятался от ветра между парапетом и жимолостью и сидел, прижимая чемодан к груди, пока из подъезда не вышел морской офицер.
Хильда смотрела, как я ем, и пересказывала то, что знала. Бессарабские немцы стали уезжать из колоний ещё год назад. Многие посылали прошение о возвращении в Германию, получали одобрение и уезжали. Дядя-архитектор уехал в Штутгарт, как только понял, что новая власть лютует не хуже прежних бандитов — те и другие лишали господ остатков роскоши. И раньше-то перед частной собственностью в этом городе не слишком трепетали, а теперь все приличные люди стремились устроиться к красным, чтобы иметь хоть какую-нибудь защиту от банды Мишки Япончика и других головорезов.
Я пересказал случившееся в степи. Хильда массировала лоб круговыми движениями, будто втирая туда невидимую мазь, и в конце концов выругалась. «Почему вы сами не уезжаете?» — спросил я. Она уставилась на меня с изумлением. «Ты уже большой мальчик и знаешь мои привычки. Портовый город — это новые люди, новые удовольствия, свободная, хотя и опасная жизнь. И это моя жизнь. Когда идёт война, я не за красных и не за белых, я перевязываю раненых».
О, я её понимал. «Здесь появились „Братья в нужде“ и „Католическое общество помощи“, и знаешь, сколько документов пришлось мне подделать, чтобы они смогли вывезти студентов, таких же как ты, и устроить на учёбу где-то в Вюртемберге? Многие, правда, не отпускают детей и надеются, что колонии оставят в покое…»
Я вспомнил, как во дворе лежит ком грязной одежды, ещё несколько минут назад бывший отцом. Раздался крик матери. Перед глазами всё расплылось, и я задрожал, хотя у Хильды было густо натоплено. Она погладила меня по голове. Раньше я боялся её рук, потому что желал их вовсе не невинного прикосновения, но теперь мои нервы отключились и не реагировали на них.
Бег событий не замедлился. Хильда вызнала, что всех бунтовавших против продотрядов судят без снисхождения и высылают в Сибирь. Комитет, с которым хотел сноситься Нольд, был беспомощен. Противостоять моему розыску Хильда не могла, так как с судьями дел не имела и милиции сторонилась. Для колонистов настали худшие времена: хлеба не хватало, нам припоминали войну, большевики были жестоки. И поскольку меня вот-вот должны были начать искать, следовало решаться: бежать, сдаваться или жить в Одессе нелегально.
Незадолго до того Хильда, пользуясь связями директора порта, выправляла право на выезд студентам Новороссийского университета. Она считала, что, раз случилась беда, мне умнее было бы смириться и выучиться в Штутгарте на химика — а потом можно и вернуться, если красные исчезнут и всё станет по-прежнему.
Метаясь ночью в горячке, я понял, что на самом деле выбора нет. Взорвать стены тюрьмы и извлечь родных я не могу. Неизвестно, когда в следующий раз поедут в Германию студенты-колонисты и поедут ли вообще. И что остаётся: жить под вечным страхом ареста с липовыми документами, сжимаясь от грохота шагов на лестнице, — но зачем? Особенно если можно отучиться в университете, а затем по знаку Хильды вернуться. Или, может, наоборот, мне удастся вызвать в Вюртемберг родных — хотя бы кого-то из них.
О Германии я кое-что знал из книг и рассказов учителя географии. Что такое Сибирь, он также рассказывал, но Бейтельсбахеры в меховых шубах, стреляющие в глаз белке или отпиливающие оленю рога, мне категорически не представлялись — даже если я принуждал свою фантазию изобрести такой вариант их будущего, от которого не хотелось сразу удавиться…
Согласно подложному пропуску я стал Матвеем, то есть Маттиасом, и через несколько дней мучительного прощания сам не свой приближался к Днестру, за которым лаяли собаки и колыхалась бессарабская тьма. В тюрьме не давали посещения, судебные заседания велись закрыто, поэтому Хильда смогла лишь передать родителям за взятку весточку с намёком, что я цел.
Сторожка, жёлтый фонарь, трепет, скольжение взглядов проверяющих по бумаге и печатям, немота попутчиков, столь же перепуганных и отрешённых, как и я, потому что они тоже впервые и навсегда отбывают в мир, где их никто не ждёт в натопленной штубе с чистой постелью и взбитыми подушками, — прочь из степи-безмолвия, степи-беспомощности, степи-чрева.
Часть II
Леонид Ира прыгает за мячом
Вера Ельчанинова попадает в раёк
Ханс Бейтельсбахер бьёт первым
Показания господина Иры
3 ноября, Лондон
Галлиполийский лагерь был бесконечной пыткой: оружие получаешь редко, упражняться не в чем, климат безумен, а выезжать не разрешается. Вернуться на родину уже никто не надеялся. Одни сходили с ума буквально, другие обнаруживали в себе спиритические способности и вызывали духов прямо в палатке, третьи грабили госпитальный склад и опаивались медицинским спиртом.
Кирасирам поручили сопровождать церемонии. Мы охраняли самодельный театр — у каждого выхода на сцену стояли по два офицера. Впервые я ликовал, что так и не был произведён из корнетов в лейтенанты, иначе пришлось бы и мне охранять оперетку. Генерал Врангель сидел под арестом на яхте «Лукулл» и, вооружившись коробкой из-под сигар, бил тараканов. Я снялся на портрет в местном фотосалоне: с кирасирским жетоном, в парадном мундире и вожделенной каске с орлом, которую одолжил у поручика Головина, поскольку своей у меня так и не появилось.
Спустя год мучений нам наконец разрешили ехать куда глаза глядят. О новой войне с красными речи не шло — Версальский мир лишил нас всякой поддержки. Зато русских тепло принимали в Чехословакии. Отец снёсся с дальними родственниками в Мукачеве и направился туда, а меня заманили в Прагу практической выгодой. Молодёжи субсидировали учёбу в университете для русских, который опекал президент Масарик.
Я сшил у портного костюм из тёмной шерсти, сунул в петлицу галлиполийский железный крестик и сел на поезд. По приезде получил в нансеновском комиссариате паспорт бесподданного и ютился в общежитии на Либене. Крошечные двухместные комнатки населяли четвёрки таких же, как я, беглецов. Из зеркала на меня смотрело потерянное лицо без гражданства.
Преподаватели юридического факультета при Карловом университете, куда я поступил, занимали чуть более просторные квартиры в «профессорском коридоре». На имматрикуляционном собрании всем студентам вручили кожаные свитки, признак учёности, и наконец-то я почувствовал себя хоть частью хоть какого-нибудь тела.
Но долго я не проучился. Коротко