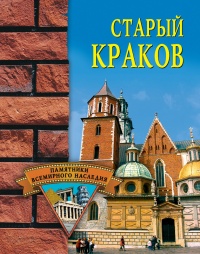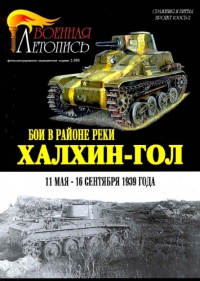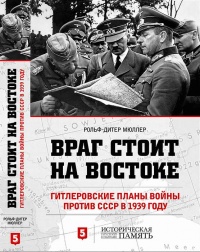Когда просыпается день И улыбается солнце, Идем мы на смену На самой заре. Лес черный, а небо краснеет. В сумках у нас по куску хлеба, А в сердцах, в сердцах у нас – тоска. О Бухенвальд, мне тебя не забыть, Потому что ты – моя судьба. Лишь тот, кто покинул тебя, оценит, Как прекрасна свобода! О Бухенвальд, мы не жалуемся и не стонем, Неважно, что ждет впереди, Мы говорим жизни «да», Ведь наступит день и нашей свободы… В последний вечер перед отъездом Абе мадам Минк попросила поварих испечь пироги с капустой и грибами – польское блюдо, – а на десерт – медовые пирожные, которые, по словам Абе, были точь-в-точь как те, что пекла его мама, отчего у него на глаза навернулись слезы. Мальчики-поляки, умевшие играть на музыкальных инструментах и петь, исполняли в ту ночь польские народные песни. Я слушал их, но мысли мои были далеко: мне вспомнилось, как Яков брал аккордеон или губную гармошку, а как-то раз даже флейту и играл похожие песни. Прежде чем все легли спать, польские мальчики исполнили «Боже, храни Польшу» – «Boze, cos Polske».
Мы с Абе так и не заснули. Сидя на стульях в столовой и потягивая чай, мы говорили о Бухенвальде.
– Помнишь посылки из Красного Креста? – спросил он меня.
Конечно, я помнил.
Бухенвальдское подполье устроило так, чтобы посылки для политических заключенных от Красного Креста пошли не им, а детям. Взрослые мужчины, терзаемые голодом, сразу же согласились передать эти посылки – с тушенкой, конфетами, теплыми носками и свитерами, – мальчишкам, из которых самым младшим было не больше семи лет. Когда мы с Абе получили свои посылки, то сразу вскрыли коробки и высыпали содержимое, включая портянки и грелки для ушей, на кровати, чтобы скорей добраться до самого желанного – шоколада. Мы не видели шоколада и вообще ничего сладкого с тех пор, как Германия оккупировала Польшу. Мы осторожно разорвали золотистую фольгу и выложили шоколадки перед собой. Полюбовавшись ими некоторое время, мы осторожно, уверенные, что это шутка и, когда мы откроем глаза, шоколад исчезнет, взяли свои плитки. Мы оба лизали шоколад, как мороженое, боясь откусить, потому что десны у нас болели, а зубы расшатались и прогнили из-за недоедания.
Я не хотел, чтобы Абе уезжал, но знал, что так надо.
Глава тринадцатая Я проспал.
Кинув взгляд на кровать Абе, я увидел, что с нее уже сняли постельное белье. Поношенный коричневый чемодан с кожаными ремнями, в который он упаковал свои скудные пожитки, включая фотографии, сделанные в Экуи, исчез.
В панике я выскочил из постели. Не завязывая шнурков на ботинках, я кинулся вниз по лестнице, перепрыгивая через две, три, а то и четыре ступеньки, летя на полной скорости в столовую. Его там не было. Мадам Минк сказала, что он уже уехал, но если я поспешу, то смогу догнать его на трамвайной остановке.
Ноги у меня быстро устали, мышцы разболелись от бега. Я чувствовал, как печет мозоль на пятке. Тем не менее я добрался, запыхавшийся и обессиленный, до остановки.
Было раннее утро, и толпа французских рабочих теснилась на платформах.
Я вклинился в нее и стал петлять между людьми, но Абе нигде не видел. Подпрыгивая, чтобы посмотреть сверху, я начал звать его по имени. Подошел трамвай, и большая часть толпы загрузилась в него, а я один остался на платформе.
Плечи у меня упали, и я тяжело вздохнул. Возможно, мы больше никогда не увидимся.
– Ромек! – услышал я чей-то голос. Подняв голову, я увидел Абе на противоположной стороне. Профессор стоял рядом с ним. Абе и профессор замахали мне руками, зовя к себе. Я начал слезать с платформы, чтобы перебежать через пути, но тут кондуктор, проходивший мимо, схватил меня за шиворот и вытащил обратно. Он указал пальцем на выход. Я, на идише, стал объяснять, что мне надо попасть к другу на противоположную платформу. Кондуктор что-то рявкнул по-французски; ноздри у него раздувались, а глаза сверкали.