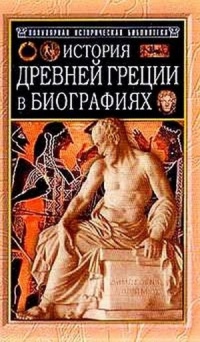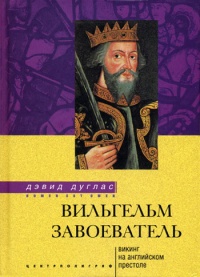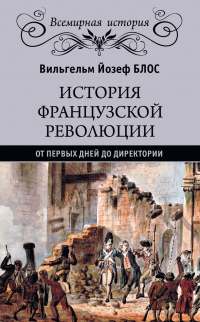ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Завещание
Была одна из тех ненастных ночей, которые так обыкновенны в начале Мэмактериона. Ветер гнал от Саламина к Пирею чёрные дождевые тучи; изредка сквозь них проглядывал бледный серп убывающей луны и тускло освещал далёкие храмы Акрополиса. На улицах гавани, обыкновенно столь оживлённых, царствовала глубокая тишина; только с моря доносился шум волн, да скрип мачт, когда сильный порыв ветра потрясал снасти немногих замешкавшихся на рейде судов. Кое-где, шатаясь и без светильника[112], пробирался из лавки виноторговца к гавани полупьяный матрос; или же крался вдоль стен домов какой-нибудь мошенник, точивший зубы на плащ запоздалого прохожего, прячась осторожно за алтарём или статуей Гермеса всякий раз, когда раздавался звон колокольчика делавших обход караульщиков[113].
В маленькой комнатке одного из самых отдалённых домов Пирея на низком и коротком ложе, еле умещаясь на нём, лежал молодой человек, довольно непривлекательной наружности. Его впалые глаза и щёки, не совсем пристойные жесты, поспешность, с какою он то и дело осушал киликс, который держал в правой руке, и, наконец, грубые шутки показывали ясно, что он принадлежал к числу тех беспутных молодых людей, которые привыкли убивать свой день, играя в кости, а ночь проводить за беспорядочными пирами, среди забывших стыд женщин. На столе перед ним, рядом с почти пустой кружкой, горела лампа[114], достаточно освещавшая маленькую комнатку; тут же стояли остатки скудного ужина и другой кубок, в который время от времени наливал себе вино сидевший против него на другом ложе раб. Между ними стояла шашечная доска. Раб в раздумье устремил на неё внимательный взор, противник же его смотрел, по-видимому, довольно равнодушно. Игра была далеко неровная; перевес был на стороне раба. Он сделал ход, который поставил противника в ещё более затруднительное положение.
— Глупая игра, — вскричал молодой человек, смешав шашки, — за ней приходится всё только думать, а не выигрывать. Нет, я предпочитаю кости, — прибавил он зевая. — Однако ж отчего не идёт Сосил? Уж, вероятно, за полночь, и по такой ужасной погоде я не пошёл бы добровольно из города в гавань.
— Он отправился к Поликлу, — отвечал раб. — Ему сказали, что больной не доживёт и до утра, а Сосил, по-видимому, принимает в нём большое участие.
— Я знаю, — сказал молодой человек, — но меня удивляет, зачем он как раз теперь потребовал меня к себе. Не мог он разве сделать это и завтра? А я должен был оставить весёлую компанию для того, чтобы скучать здесь и пить купленное на мои же деньги вино. Старый скряга не позаботился даже о том, чтобы было что выпить.
— Я знаю только одно, — возразил раб, — что мне было приказано отыскать тебя где бы то ни было и привести сюда. Он сказал, что должен поговорить с тобою непременно сегодняшней же ночью.
— А между тем сам не идёт. Скажи мне, он вышел один, без провожатого?
— Нет, с ним Сир, — ответил раб, — поверь, с ним ничего не случится. А впрочем, — прибавил он улыбаясь, — хотя бы даже он и не вернулся — что за беда; разве не ты его ближайший родственник и наследник? Два дома в городе, этот, меняльная лавка и, может быть, от пяти до шести талантов чистыми деньгами — наследство не дурное.
Молодой человек спокойно растянулся на ложе.
— Да, Молон, если он отправится, то...
В эту минуту кто-то сильно постучал у входной двери.
— Это он, — сказал раб, поспешно схватил шашечную доску и свой кубок, поправил подушки и покрывало на ложе, на котором сидел, и встал возле молодого человека, как бы прислуживая ему.
Вскоре на дворе послышались шаги и грубый голос, дававший рабу какое-то приказание; дверь отворилась, и в комнату вошёл человек с густою бородою и лицом более мрачным, чем серьёзным. На нём, по спартанскому обычаю, был надет короткий плащ из толстой зимней материи и спартанские башмаки; в руках он держал толстую палку, с загнутою, в виде кольца, ручкою. При виде посуды и более обыкновенного освещённой комнаты он позабыл поздороваться с гостем и гневно подошёл к рабу.
— Мошенник! — крикнул он, замахнувшись палкой. — Зачем горят два огня у лампы и к чему ты поставил такие толстые фитили? Разве ты не знаешь, что и без того за зиму выходит немало масла? А ты, Лизистрат, — сказал он, обращаясь к молодому человеку, — ты, кажется, превесело распиваешь здесь, у меня?
— Да, дядя, — отвечал этот с горечью, — распиваю вино, взятое в долг в лавке, так как твоё на запоре. Ты, видно, полагаешь, что я должен ожидать тебя здесь полночи, даже не выпив ни капли?
— Я рассчитывал вернуться раньше, — сказал старик несколько мягче, озираясь вокруг. — Ступай, — сказал он рабу, — ты нам не нужен, ложись спать.
Раб удалился. Сосил задвинул задвижку у двери и вернулся к племяннику.
— Умер, — сказал он, глубоко вздохнув, — да, Поликл умер и оставил состояние более чем в шестьдесят талантов без законного наследника.
Племянник изумился.
— Нам что до этого, — сказал он, — на нашу долю ведь ничего не выпадет?
— Вот в том-то и заключается теперь весь вопрос, — возразил дядя. — Лизистрат, — продолжал он, помолчав немного, — от тебя зависит разбогатеть.
— И я хочу этого, клянусь Дионисом! — вскричал, смеясь, племянник.
— Ты разбогатеешь, если только сделаешь то, что я потребую. Хотя мы и состоим в родстве с Поликлом, так как моя покойная жена была сестрою матери Клеобулы, но это, разумеется, не даёт нам никаких прав на это наследство. Но что, если бы я стал наследником по завещанию?
— Ты думаешь по подложному, — сказал в раздумье Лизистрат, — но как же ты сделаешь это, не имея печати Поликла? И неужели ты полагаешь, что во время своей долгой болезни он не распорядился сам своим состоянием?
Не говоря ни слова, старик пошёл в соседнюю комнату и принёс оттуда ящик, из которого достал запечатанный пакет.
— Читай, — сказал он, положив пакет перед молодым человеком, — что тут написано.
— Клянусь Дионисом, — вскричал племянник, вскакивая с ложа, — да это завещание Поликла! Каким образом оно попало к тебе?
— Самым простым, — возразил дядя. — Когда