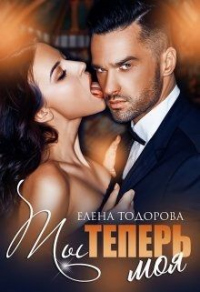– Ясно, – высекает Артем. – Все ясно, – голос его при этом ломается и на последнем слоге садится. Четко слышу. И меня перебивает ледяная дрожь. – Молодец.
Из-за интонаций воспринимать его слова как похвалу невозможно. Я начинаю трястись сильнее. Неловко поправляю белье и пытаюсь одернуть платье, но его ладони мешают это сделать.
– Давай выбираться, пожалуйста, – шепчу едва слышно. – Я замерзла.
Чарушин ничего не говорит. Отпускает меня, чтобы заправить в боксеры член. А потом просто сдергивает в воду и помогает добраться до лестницы.
На суше мне становится еще холоднее.
– Может, у тебя в машине есть какое-то полотенце? – рискую в очередной раз обратиться за помощью.
На пляже освещение обширное. Больше не спрятаться. Приходится смотреть в глаза. Артем выглядит мрачно, но прям бушующей ярости я не улавливаю. Стискивая челюсти, он ненадолго отводит взгляд, чтобы посмотреть на продолжающих веселиться на пирсе ребят.
Тяжело вздыхает.
– В дом пойдем, – выдает, наконец.
Тут же направляется к своему заднему двору. Оборачивается, когда понимает, что я не двигаюсь.
– Идешь?
Даже одно это вопросительное слово звучит грубо. Типа, если не хочешь, вали к черту.
Иду, конечно. Сердце с каждым шагом ускоряется. Обратно ведь раньше утра уже не выйду. Не выпустит. Осознаю это. Осознаю и иду.
Едва попадаем в дом, закрывает входную дверь на внутренний замок. Ловлю его взгляд и заливаюсь жаром.
Мы одни… Господи, мы совсем одни… Как раньше… Как в прошлом…
– Полотенца найдешь в шкафу, – сухо указывает направление. – Вымойся нормально. Голову тоже. От твоих духов тошнит.
«Так не нюхай!», – хочется крикнуть в ответ.
Но Чарушин уже скрывается за дверью второй ванной. Смахивая навернувшиеся было слезы, спешу в выделенную мне душевую.
Мокрое платье слазит вместе с бельем. Бросаю все это в стиральную машину и запускаю быстрый режим. Делаю то, что мне велели: выбираю гель с наиболее выразительным запахом и не меньше трех раз прохожу все тело мочалкой. Волосы в столько же подходов ароматным шампунем намыливаю. После еще стою под струями горячей воды.
Вытираюсь. В одно полотенце закручиваю волосы, а второе – самое огромное – оборачиваю вокруг груди.
Артема искать не приходится. Выхожу и застаю его в гостиной. Он, в отличие от меня, оказывается одетым. Я даже теряюсь. Больше не хочет? Почему? Что не так?
Господи… Сейчас он скажет, чтобы я уходила, а я уже платье стираю и планирую тут ночевать. Стыдоба!
В порыве самобичевания упускаю момент, когда он подходит.
– Я… – собираюсь попросить какую-то одежду, чтобы убраться, не дожидаясь, когда прогонят.
Но Чарушин не дает договорить. Сдергивает с меня полотенце, разворачивает и, подталкивая к стеклянному столу, демонстративно бросает на него ленту из пяти презервативов.
Я заторможенно моргаю. Рвано вздыхаю. Сглатываю, чтобы хоть как-то унять возникший в ушах звон.
– Наклонись и упрись ладонями.
Мое сознание дает сбой.
17
Рассвет посреди темной ночи.
© Артем Чарушин
Чувствую себя как заглушенный препаратами псих. И они, походу, завязывают тащить моих демонов. За грудиной назревает масштабный бунт – слабо, но назойливо и неотступно пульсирует.
Я на грани катастрофического срыва.
По-хорошему бы – отпустить Богданову домой, отстреляться вручную и поймать утраченный дзен, завтра с ней продолжить… Только вот я, блядь, оказываюсь не способным дать бой своей похоти.
Зазываю Дикарку в дом.
Толку от ледяного душа ноль. Но это хоть позволяет оправдать пробивающий тело тремор. Ни хрена это не нервное, и не сексуальное возбуждение, просто замерз. В попытках скрыть слишком обличительные реакции организма, пялю на перекачанное бурлящей энергией тело спортивный костюм.
«Нагну, член достану и тупо трахну», – вырабатываю план.
Никак поцелуев. Никаких касаний. Никаких чувств.
Чтоб улететь, мне хватит лишь вмочить. Но я, безусловно, буду держаться и… Все получится. Должно получиться. Это ведь, сука, просто секс. Сколько у меня его было? Тоже мне сложнейший пилотаж. Даже если Богданова и остается вышкой, у меня, мать вашу, пробег. И похрен, что с ней топить приходится на ручнике.
Она не узнает. Нет, она догонит. Блядь, пожалуйста, пусть она не поймет.
Резко вдыхаю и решительно срываю с нее полотенце. Кручу от себя. Стискивая зубы, на миг глаза прикрываю. Распахивая, толкаю Дикарку к столу.
– Наклонись и упрись ладонями.
Она ежится. Вижу в находящемся за столом зеркале, как зажмуривается, словно я затребовал нечто омерзительное. Замирает и вздрагивает всем телом.
Мне похуй… Мне похуй… Глубоко похуй…
Смотрю на покрывающуюся мурашками кожу, и у самого по спине какая-то нездоровая волна летит. Практически сразу же выступает испарина. Под толстовкой неудивительно. Дело именно в ней.
Богданова вздыхает и, не поднимая век, наклоняется. Вслепую нащупывает ладонями стол.
– Ниже. Поясницу выгибай, – инструктирую сухо.
Она в очередной раз вздрагивает и опускается настолько, что следующий ее натужный выдох оседает на стеклянной столешнице запотевшим пятном.
Хватаю ленту и отрываю крайний презерватив. Что-то поднимается внутри, я навешиваю себе, что это злость. И даже не пытаюсь задаться вопросом: на что, блядь? Нормальному человеку ведь не из-за чего в данной ситуации кипеть. А я киплю… Похрен, почему.
Агрессивно вскрываю зубами упаковку. Сдергиваю штаны. Раскатываю.
Веду взглядом по желанной плоти. Киску, попку – мутным взглядом зацениваю. На этом и стоило бы остановиться, приступать к процессу. Но я курсирую дальше. По узкой талии, хрупкой спине, выступающим лопаткам, напряженной шее, склоненной голове… Пока не утыкаюсь через гребаное зеркало в лицо.
Нутро разворачивает, словно драный парус. И вовсю этим ебучим иллюзорным ветром трепать принимается.
На износ. Сука, на износ.
Забываю, что должен делать. Маниакально рассматриваю, как трепещут ресницы Дикарки, как едва заметно дрожат распахнутые губы, как взволнованно она дышит, как с каждой секундой гуще алеют ее щеки.
То ли она чувствует повышенное внимание, то ли теряется из-за того промедления, что я ненароком выдаю… Вскидывает взгляд.
Сталкиваемся.
Хрен объяснишь, что происходит. Из моей груди будто одним мощнейшим ударом весь воздух выбивает. Да что там воздух?! Ломает ребра, разрывает мягкие ткани и увечит тот проклятый основной орган, который я, блядь, призываю работать только на механическую часть.