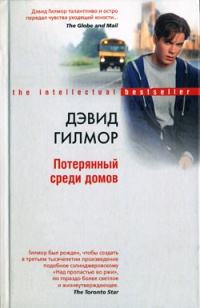– Понимаю, что в такие минуты тебе не до себя, но я все же хотел бы известить тебя: дон Себастья, племянник наместника короля, сообщил мне, что вопрос с заказом на дароносицу как будто бы решен в твою пользу…
Шрам посмотрел на него, полный благодарности. Ладонями, еще влажными от соплей и слез, он схватил духовника за руку, слегка липкую после застолья, и несколько раз поцеловал, поскольку без такого ритуала отец Феррандо, несмотря на отвращение, духовного сына отпустить не мог. Рафел Кортес почувствовал на губах сладкий привкус и решил, что это – вкус святости.
VI
Шрам почти бегом добрался до церкви Святой Евлалии, но его благое намерение обогнать всех, чтобы самому договориться о последнем причастии для Дурьей Башки, пропало втуне: оказалось, что его опередили. Старший сын Кортеса уже приходил за отцом-настоятелем, и тот, облачившись в альбу[88], был готов к выходу. Шрам подождал у двери, пока тот выйдет, предшествуемый служкой, который звонил в колокол, и отправится в еврейский квартал. Слегка успокоившись, ювелир шел в нескольких шагах позади священника и вполголоса читал молитвы. Вместе со священником он вошел в дом кузена и поднялся в комнату хозяина. Смерть уже почти сковала тело Дурьей Башки, который время от времени начинал шевелиться, содрогаясь и пытаясь сползти с кровати. Его мутный взгляд не изменился, когда священник подошел к нему: он никого не узнавал и потому даже не попытался его прогнать или запротестовать, когда клирик попросил всех выйти, чтобы исповедать умирающего.
За дверью темной комнаты, прислушиваясь ко всему, что там происходит – на случай, если отец внезапно придет в себя, – Жузеп Жуаким Кортес Дурья Башка был настороже. Прочие домашние сидели на кухне, где на очаге бурлил большой горшок с водой, приготовленный для соответствующих надобностей. Священник, привыкший иметь дело с умирающими, сразу понял, что состояние Дурьей Башки очень тяжелое и вряд ли к нему вернется сознание, так что исповедать его затруднительно. Поэтому он вышел к семье старьевщика и призвал всех к общей молитве. Дурья Башка беспокойно задвигался, когда отец-настоятель приступил к обряду елеосвящения[89] и помазал священным маслом его голову. На восковом лице Кортеса особенно выделялся заострившийся нос. Мучительные конвульсии сотрясали его тело, он задыхался, стонал, тянул руки к груди. Сразу по завершении ритуала Шрам подошел к клирику и спросил, не думает ли тот, что таинство вернет брата к жизни, как это иногда случается. Но священник, хоть и верил в чудеса, заверил ювелира, что жить Дурьей Башке осталось считанные часы и кипяток из чана на кухне скоро пригодится, чтобы обмывать тело. Следом за настоятелем церкви Святой Евлалии ушел и Кортес, сказав сыновьям умирающего, что всегда готов помочь и обязательно вернется. Выйдя на улицу, он понял, что совершенно не знает, куда себя деть, поскольку возвращаться домой не в состоянии, а отец Феррандо вряд ли вновь примет его, поэтому пошел к воротам Святого Антония, чтобы чуть-чуть развеяться за городом.
Прошел примерно час, как отец Аменгуал проводил своих гостей к дверям монастыря. Вместе с ними ушел и отец Феррандо, озабоченный новостями, которые принес Шрам. Как и предвидел иезуит, судебный следователь выслушал сообщение с кислым лицом, потому что его тоже не прельщала перспектива устраивать процесс над мертвецом и выкапывать из могилы кости усопшего, чтобы потом публично сжечь их. Отец Аменгуал же, напротив, чувствовал себя совершенно счастливым. Совершенно ясно, что сеньор инквизитор ничуть не поблагодарит отца Феррандо за эту историю и уж точно не замолвит за него слово перед своим влиятельным другом – генеральным настоятелем, но придет в ярость, как это с ним нередко случается, и прикажет священнику изъять донос Шрама.
Оставшись в одиночестве, отец Аменгуал и дальше с удовольствием бы предавался приятным размышлениям, поскольку знал, до какой степени эти мысли беспокоят отца Феррандо, но вынужден был оставить их: он вспомнил, как хитрый иезуит тонко намекал на не совсем благонадежных родственников ученого монаха. А это, если следователь по делам конфиската и святейшая инквизиция и впрямь проявят рвение, может стать причиной для серьезных подозрений.
Кабальеро Себастья Палоу проводил каноника до Дворца. Там они расстались, договорившись встретиться вечером у его высокопреосвященства сеньора епископа, чтобы отведать еще одно, загадочное, лакомство. После этого он направился ко дворцу Алмудайна, стараясь не останавливаться поболтать со всеми, кого приветствовал, приподнимая шляпу или дожидаясь, в соответствии с иерархией, чтобы шляпу приподнял знакомый. Едва явившись в Алмудайну, Себастья поинтересовался, где его тетушка, у которой, как всегда по вечерам, заседала тертулия из самых знатных сеньор города. Поскольку они умирали со скуки, у них не было иной заботы, кроме как проводить время, развлекая себя сплетнями и болтовней. В основном беседа вращалась вокруг перипетий, связанных с грядущей беатификацией – ну наконец-то! – тетушки маркизы, достопочтенной сестры Нореты Каналс.
– Меня расстраивает лишь одно, – услышал Палоу высокий голос родственницы еще до того, как слуга объявил о его прибытии, – что моя тетя не была моей матерью.
– Но это было бы совершенно невозможно, дорогая Онофрина! – возразила жена Верховного Судьи. – Как бы она при этом осталась непорочной девой? Или святая ею не была?
Дама воскликнула это с таким подчеркнуто невинным видом, что Себастья невольно усмехнулся.
– Будь на то воля Господа нашего, она могла бы быть и непорочной девой, и моей матерью, как Пресвятая Богородица, – заверила всех донна Онофрина с улыбкой, подошедшей бы и самой святой. – Ее благочестие всем известно. Я свято верю в непорочное зачатие. Святая Анна, бабушка нашего доброго Иисуса, тоже была девственницей… Ее материнство было истинной радостью, настоящим даром Господним.
И она испустила столь длинный вздох, будто сама только что родила.
– Дети, милейшая Онофрина, доставляют столько беспокойства! – возразила графиня Белумарс – мать пятерых сыновей, которых никак не удавалось женить. – Коли Бог не дал тебе потомства, можешь быть довольна этим.
– Ну, у меня есть Жоанет… я его крестная… Мы любим его как родного…
Потолок зала, в котором ее высокопревосходительство принимала гостей, был разделен деревянными балками на квадраты, а беленые стены были увешаны картинами. Последние повесили – она хорошо помнила это – не далее как два года назад. На одной – Зевс Громовержец, в лице которого все находили сходство с наместником короля, чем маркиз чрезвычайно гордился, на другой – принимающая золотой дождь[90] Даная, чьи черты были списаны (хотя и не очень удачно) с сеньоры маркизы. Злые языки поговаривали, что пышные телеса греческой царевны, которые она стыдливо прятала в драпировках, тоже принадлежали донне Онофрине. Художник – венецианец, специально присланный ко двору наместника короля, как болтали в городе, ни на пядь не отступил от размеров своей модели. Воспоминания о мэтре Чапини долгое время скрашивали жизнь маркизы, находившей в обществе Гаэтано, в беседах с ним приятное отвлечение от надоевшего брачного союза, в котором супруг искал утешений, коих она ему не предоставляла, вне дома. Художник не просто давал ей высказаться, но, как кажется, слушал ее сочувственно.