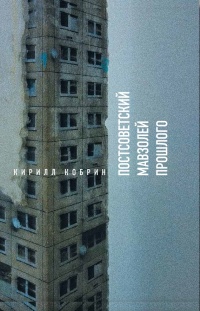Несмотря на то, что в политическом отношении Россия не слишком напоминает развитые страны, экономически она кажется более приспособленной для «встраивания» в современный мир. Ее хозяйственная система давно избавилась от замкнутости; в стране существует частное предпринимательство и разрешена деятельность иностранных компаний; курс национальной валюты устанавливается на основе спроса и предложения; декларирована неприкосновенность частной собственности. Конечно, существующая модель несовершенна: в этом контексте обычно указывают на сырьевую ориентированность, масштабное участие государства в экономике, распространенность коррупции и местничества — но в то же время сторонники тезиса о «современности» России акцентируют внимание прежде всего на ее хозяйственных достижениях («хотя российская трансформация была во многих смыслах болезненной, а политическая система государства далека от совершенства, страна демонстрирует впечатляющий экономический и социальный прогресс (курсив мой. — В. И.)»[175] — потому убеждены, что ее дальнейшее естественное развитие обеспечит в конечном счете политическую и идеологическую модернизацию общества. Я убежден, что этого не случится, и в ближайших двух главах попытаюсь обосновать этот тезис.
«Печать» ресурсного хозяйства
Когда современные исследователи говорят о «ресурсном хозяйстве», они прежде всего имеют в виду то гипертрофированное значение, которым в ряде стран обладает добыча полезных ископаемых. Это действительно весьма необычный источник богатства, существенно меняющий ориентиры и направления развития многих народов. Во-первых, наличие данных ресурсов не является следствием специфических усилий человека, а выглядит скорее «подарком свыше», причем о его «справедливости» говорить не приходится. Во-вторых, цены на подавляющее большинство сырьевых товаров обычно заметно выше издержек их производства и при этом на долгих исторических интервалах они растут быстрее, чем на большинство массовых товаров. В-третьих, значительные объемы ресурсов существенно искажают основные пропорции воспроизводства в добывающих странах, заставляя особенным образом оценивать как издержки, так и капитальные активы. Стоит, однако, отметить, что само по себе ресурсное хозяйство в обычно вкладываемом в это понятие смысле — достаточно недавний феномен. В прежние столетия в мире не было стран, которые бы критически зависели в своем развитии от природных богатств, не подвергавшихся никакой существенной обработке (колониям, которые зачастую выступали поставщиками экзотических товаров, эти ресурсы не приносили благоденствия — скорее наоборот). Конечно, государства всегда пользовались возможностями специализации, в том числе и такой, которая обусловливалась естественными особенностями страны (как, например, Китай, столетиями экспортировавший шелк, фарфор или чай), — однако в большинстве случаев речь шла не о сырье в «чистом» виде, а о товарах, требовавших для своего изготовления большого труда. При этом следует иметь в виду, что внешняя торговля вплоть до середины XIX века не определяла облик большинства экономик: отношение внешнеторгового оборота к ВВП в Европе к 1870 году составляло около 30 %, и менее 10 %, если исключить торговлю между самими европейскими странами[176]; ресурсы же даже и после этого составляли небольшую долю внешнеторгового оборота развитых стран (если не считать продукцию аграрного сектора). Наконец, стоит повторить еще раз, ресурсная специализация была уделом практически исключительно колоний или зависимых территорий — и потому приносила последним не столько доход, сколько излишнее внимание со стороны европейских держав, а с ним насилие и лишения.
«Ресурсные (или сырьевые) экономики» — это, как ни странно, явление ХХ века. Только сочетание формального политического равноправия всех стран, признанного после деколонизации, их растущего экономического неравенства, ставшего следствием постиндустриальной революции, и стремительного удешевления услуг транспорта сделало возможным появление сырьевых экономик в их нынешнем виде. Вплоть до середины 1960-х годов мир не видел таких государств, как, например, Венесуэла, у которой нефть обеспечивает 98,6 % экспорта, а стоимость поставок нефти за рубеж равняется 10,5 % номинального ВВП; Ямайка, где такую же роль играют бокситы (65 % экспорта, соответствующие 8,4 % ВВП), или Намибия с ее алмазами и золотом (49 % экспорта и 7,6 % ВВП)[177]. Чем более интернационализирован тот или иной сырьевой рынок, тем больше стран «подсаживаются» на «иглу» соответствующей товарной зависимости. По состоянию на начало 2010-х годов в мире было 21 государство, в которых больше половины экспорта составляла нефть; 15 зависимых от руд и металлов и 7–8 стран, не мыслящих своего выживания без сельскохозяйственных монокультур (хотя, замечу, уже не осталось государств, в которых один аграрный продукт составлял хотя бы половину экспорта)[178]. Однако, повторю, история всех этих зависимостей не превышает 40–70 лет, т. е. двух-трех поколений, — и поэтому они вряд ли могут считаться полностью определяющими судьбы многих народов[179] — тем более что в мире появляется все больше стран, которые за счет использования современных стратегий хозяйственного развития благополучно преодолевают излишнюю зависимость от добывающих отраслей.