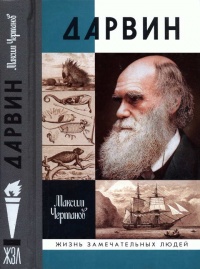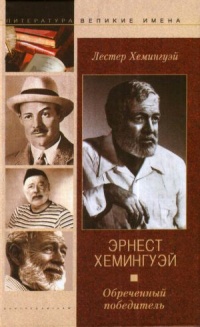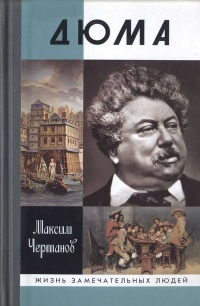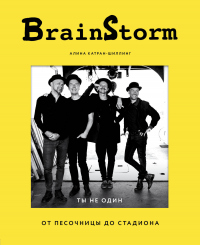Эрнест писал о моде, о «Бал Мюзетт», о «богеме»: «В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве. Конечно, это приятное занятие, но они претендуют, что они-то и есть настоящие художники. С того доброго старого времени, когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставлял закупоренную бутылку хлороформа на умывальник, а сам потел, обтачивая свои „Цветы зла“, один, лицом к лицу со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до и после него». Вопреки распространенному мнению, будто Хемингуэй любил работать в кафе, он предпочитал делать это в тишине и уединении. Он не мог писать даже в квартире, где отвлекал шум, и снял номер в отеле «Декарт», том, где умер Поль Верлен: там имелся камин и не надо было таскать уголь. Дома он почти не бывал: холодом, грязью и шумом наслаждалась одна Хедли. Почему они не сняли квартиру получше — не пришлось бы тратиться на отель? Может, казалось, что так сэкономят больше, а может, присутствие жены мешало мужу и он в любом случае искал бы одинокой берлоги.
Один из февральских очерков для «Стар» посвящен русским эмигрантам: «Они приезжают в Париж, полные детского оптимизма, уверенные, что жизнь наладится сама собой: это умиляет, когда вы сталкиваетесь с ними впервые, но через несколько месяцев начинает раздражать. Никто не знает, на что они живут, кроме продажи драгоценностей, золота и семейных реликвий, которые они, убегая от революции, привезли с собой. Что будет делать русская колония в Париже, когда продаст или заложит все драгоценности — это вопрос. Конечно, положение дел в России может измениться, может произойти чудо, которое спасет русскую колонию. На бульваре Монпарнас есть кафе, где каждый день собирается множество русских помечтать об этом чуде, но потом, вероятно, русским, как и всему остальному миру, придется работать. Жаль — они очаровательны». Какое кафе Хемингуэй имеет в виду — вопрос спорный: наши эмигранты посещали и «Кпозери де Лила», и «Ротонду», и «Селект». Были, правда, в Париже русские, которые не жили продажей драгоценностей, а, к примеру, писали книги, но их Хемингуэй не встречал, да и тех, о ком написал, знал, вероятно, понаслышке: он утверждал, что их оптимизм начинает раздражать «через несколько месяцев» общения, а сам провел в Париже только месяц, ни слова, естественно, не понимая по-русски, да и французский еще зная не бог весть как. Журналистика и документалистика — не одно и то же, особенно когда речь идет о Хемингуэе.
За февраль — март он написал девять статей для «Стар» и рецензию на плохой роман Рене Марана «Батуала» — не так много, но при его дотошности в выборе слов работа его измотала и он жаловался Андерсону, что она «разрушает» его. Он хотел заниматься не журналистикой, а литературой: «…надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь… И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал». Над чем же конкретно он работал? Обсудим это позднее, когда случится одно знаменитое происшествие.
Перед отъездом в Швейцарию он отослал рекомендательные письма Андерсона к Стайн, Паунду и Бич; теперь были получены ответы и состоялись встречи. Эзра Паунд в 1908 году переехал из США в Англию, где некоторое время был секретарем Йетса; начал публиковать стихи и переводы, а в середине 1910-х, издав антологию поэзии и теории имажинизма, уже считался крупным поэтом и теоретиком поэзии. Как Андерсон в прозе, он ратовал за новый художественный язык — точный, без «красивостей» и, разумеется, без такой старомодной условности, как рифма:
Через плоский склон Сен-Алуа Широкая стена мешков песка. Ночь, В тишине дезорганизованные солдаты Колдуют у костров, опорожняя котелки: Раз-два, с фронта Люди возвращаются, будто это Пиккадилли, Прокладывая в темноте тропинки Через груды мертвых лошадей, По мертвому пузу бельгийца[9].
Хемингуэй тоже писал стихи, до 1925 года регулярно, хоть и нечасто, потом от случая к случаю, например, когда бывал влюблен, — но его поэзия и на родине не получила признания, а у нас вообще неизвестна. Литературоведы знают чуть более двадцати его стихотворений, большинство из которых были опубликованы в начале 1920-х в журналах «Литтл ревью», «Поэтри», «Квершнит» и в сборнике «Три рассказа и десять стихотворений». Значительным поэтом его никто не считает и сам он себя не считал, так что ограничимся одним примером:
Солдатам не светит хорошая смерть. Им светит крест возле поля боя. Крест из дерева вгонят в земную твердь У павшего воина над головою. Солдат кашляет в дыму и корчится, А вокруг грохот взрывов, огонь и вой. Солдат, пока атака не кончится. Задыхаясь, не верит, что он живой[10].
(«Поля чести», Чикаго, 1920)
Паунд стихи Хемингуэя похвалил — они напоминали его собственные. Человеком Паунд был общительным и добродушным, любил покровительствовать. Хемингуэй вспоминал о нем: «Эзра был самый отзывчивый из писателей, каких я знал, и, пожалуй, самый бескорыстный. Он помогал поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь всякому, кто попал в беду, независимо от того, верил он в него или нет… Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым». Помогал Паунд и материально, и профессионально: Джойс говорил, что редактура Эзры превратила «Улисса» из «аморфной груды осколков» в роман.
Паунд тут же обещал пристроить стихи нового друга в журнал «Циферблат», а рассказы в «Литтл ревью», где сам печатался, а также был литературным редактором и искателем спонсоров, «взамен» потребовав обучать его боксу, что было начато немедленно, невзирая на двухкратное превосходство гостя в росте и весе. Уроки продолжались несколько недель. Во время одного из них Хемингуэй познакомился с Уиндемом Льюисом, ядовитым критиком, который впоследствии напишет на его работы злую рецензию и которого он назовет «человеком, гнуснее которого еще никогда не видел». Льюис в автобиографии описал 23-летнего Эрнеста: «Великолепно сложенный юноша, обнаженный до пояса, с ослепительно белоснежным торсом, стоял недалеко от меня. Он был высок, красив и невозмутимо отражал боксерскими перчатками нервные выпады Эзры. После удара в солнечное сплетение Паунд повалился на диван. Юноша был Хемингуэй. Паунд выглядел как дом, объятый пожаром, рядом с этой необыкновенной статуей». По «Празднику», никакого удара не было, напротив: «Я хотел закончить, но Льюис настоял, чтобы мы продолжали, и мне было ясно, что, совершенно не разбираясь в происходящем, он хочет подождать в надежде увидеть избиение Эзры. Но ничего не произошло. Я не нападал, а только заставлял Эзру двигаться за мной с вытянутой левой рукой и изредка наносить удары правой, а затем сказал, что мы кончили, облился водой из кувшина, растерся полотенцем и натянул свитер».