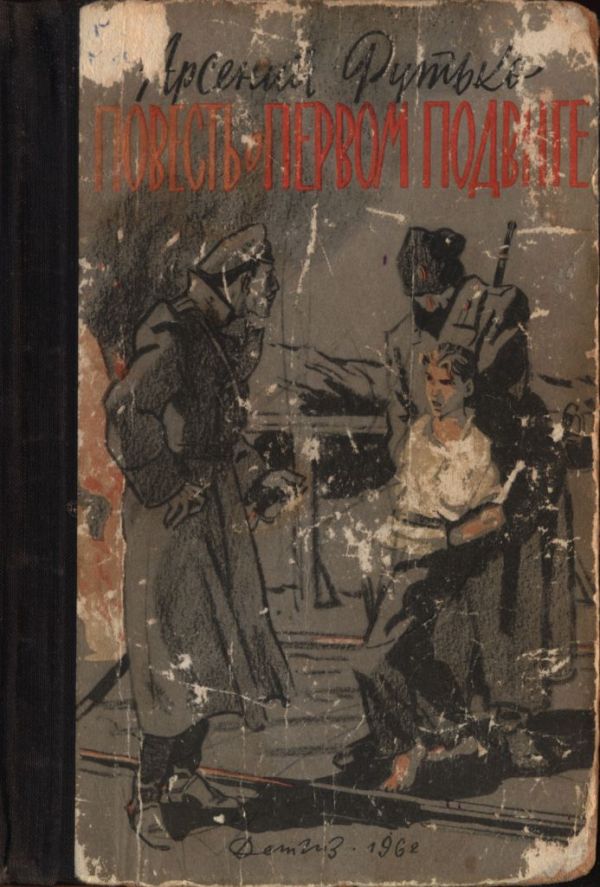живут в Домовине, у самого шоссе». Это звучало, как в церкви, когда запевает один священник, а ему откликается весь хор.
Кто-то взял у него из рук мешок с зайчихой. Кто-то сказал: «Обыскать его». И чья-то рука полезла к нему в карман. Обомлев, он наблюдал за тем, как из кармана у него вытаскивают перочинный ножик с костяным черенком, бечевку, ржавый ключ, бензиновую зажигалку без колесика…
Потом эта же рука, грубая огромная ручища, приблизилась к другому карману. И тут Милан очнулся. Им овладел отчаянный страх.
— Нет, нет, нет! — кричал он. — Нет, нет, нет, дяденька, пан солдат! Пожалуйста, не надо…
— Ага! — победно воскликнул офицер с прилизанными волосами. — Ага!
Он оттолкнул солдата, который обыскивал мальчика, и сам потянулся к карману.
— Нет, нет, нет! Не смейте! Не смейте, слышите! Я убью вас! — Милан словно взбесился. Он лягался, кричал, плакал, отрывая от кармана руку офицера.
— Партизан, was? Партизан? — взревел офицер, отодрал пальцы Милана от кармана, сунул туда руку и вытащил несколько аккуратно сложенных листков, перевязанных красной ниткой.
— Ага! Ага! Партизан!
Мелькнула в воздухе большая рука с перстнем-печаткой на среднем пальце. Раздалась затрещина. Потом вторая, третья… Голова Милана дергалась из стороны в сторону. Кто-то завизжал, протяжно, по-женски, кто-то заохал.
Солдат с водянистыми глазами разворачивал листочки под лампой.
Милан вырывался, пытался броситься на солдата, но его держали крепко. Солдат развернул первый листочек и начал читать:
Дорогой Милан! Гита сказала, что ей сказала Милка, что ты будто сказал при Мише, что я страшная обезьяна. Пишу тебе, потому что я ужасно на тебя сержусь. Напиши мне, а записку передай через Юлю.
Марьяна.
Кухня — теперь уже Милан довольно ясно видел, что это большая кухня у Грофиков, — кухня загудела. Кухня была полна женщин, которые пришли за молоком. Наверняка там все до одной женщины от Верхнего до Нижнего конца. И старая Грофичиха. И молодая хозяйка. Все глядели на него. Весь мир глядел на него, а он должен был стоять на самой середине под лампой и бессильно глядеть, как немец разворачивает второй листок.
На втором листке было нарисовано сердце, красивое красное сердечко, увенчанное незабудками и надписью: «Навеки верная любовь». Этот листок, над которым он бился два дня, Милан собирался послать Марьяне, но так и не послал. И письмо, над которым он столько просидел, пока сочинил его, его он тоже не послал. Господи, неужели они и его прочитают!
Солдат с водянистыми глазами и злой, оскорбительной ухмылкой развертывал последний листок.
Дорогая Марьяна! Когда я тебя увидел в первый раз, я подумал, что ты уродина. Когда я увидел тебя во второй раз, я увидел, что ты красивая, и поэтому я в тебя влюбился.
Навсегда твой Милан.
— Liebesbrief, [13] — сказал переводчик офицеру.
Это слово было знакомо Милану: именно так мальчики называли письма, которые они писали девочкам.
Офицер пожал плечами, что-то пробормотал лающей скороговоркой, потом повернулся к Милану.
— Марш! — сказал он и отвернулся.
Чьи-то руки повернули Милана и выставили его за дверь. Зайчиха вместе с мешком осталась у Грофиков в качестве трофея.
Милан шагал между двумя солдатами, которые вели его домой. Он кусал губы и тяжело дышал. Он все еще не верил, что допрос окончен, и каждую секунду ждал, что его вернут и снова начнут обыскивать.
И когда он закрыл за собой домовую калитку, а солдаты поворотили назад, только тогда до него дошло, что он в самом деле свободен. «Не нашли, не нашли!» — хотелось ему кричать Во все горло. Не нашли! Письмо Эрнеста, спрятанное под рубашкой около сердца, слегка покалывало его уголками. Стеариновая печать приклеилась к голому телу, бумага приятно шуршит, если ее потрогаешь.
Не нашли!
Завтра он отнесет письмо в Грушовяны. А эти пусть себе читают записки Марьяне и от Марьяны! Ему здорово повезло тогда, что он пошел вместе с Силой и застал Цифру за воровством, после которого ему стал противен не только Цифра, но и его Марьяна. Повезло…
11
В корчме у Бенковича танцы. В корчме у Бенковича дым коромыслом. В зале на правой половине сцены сидит оркестр. На левой половине стоит длинный стол, на нем бутылки вина, нарезанная кружочками колбаса, плетенки с хлебом, блюда с пирожками.
Оркестр играет польки, фокстроты, вальсы, танго. В зале, пол которого вчера вымыли до блеска и посыпали стругаными свечками, чтобы скользко было, кружатся пары. В основном это немецкие солдаты с лабудовскими девчатами.
На сцене за столом сидят офицеры. Сидит там и Цифра в гардистской униформе и в белых перчатках. И сельский писарь, и старый Буханец, чисто выбритый, подстриженный, в старомодной рубахе. И сын Буханца, Филип-аризатор, здесь с женой Амалей. Этот специально приехал из города в собственной машине — старой, но все еще солидной «праговке». На Амале новое фиолетовое платье с ватными плечами; волосы, которые она подстригает с тех пор, как стала пани аризаторшей и зажила по-господски, завиты локонами.
Второй сын Буханца, Артур, который аризовал Пинкуса, не сидит на сцене рядом с отцом. Он стоит в углу зала среди парней, пьет с ними водку и поглядывает на сцену. Он и сам бы не прочь усесться на сцене, но ему стыдно, что жена не пошла с ним. Иолана отказалась идти на танцы: не будет, мол, она сидеть рядом с этой стриженой обезьяной (это она про невестку Амалю). Иолана ненавидит Амалю. Ненавидит ее за стриженые волосы и за лисью шубу, в которой Амаля расхаживает по деревне. Ненавидит за городские словечки, которыми Амаля усыпает свой разговор.
И Цифровой здесь не видать. Рассорилась она с мужем, изругала его последними словами, потом заперлась в комнате и расплакалась. Цифрова теперь стыдится выглянуть на улицу. Она тут поскандалила было с Гозларовой из-за кур, а та возьми и крикни ей при всем честном народе, перед всей деревней: «Ты, мол, такая-сякая, и не стыдно тебе на людях показываться! На Бертиных перинах спишь, из краденой посуды жрешь, тьфу!»
Когда оркестр умолкает, офицеры, не вставая с лавки, берутся под ручки, раскачиваются из стороны в сторону и фальшивыми, пьяными голосами поют припев: «Га-йя-йя, кукук!» Потом поднимают руки и прищелкивают пальцами.
Немцы веселятся.
Пан писарь уже набрался. Когда его берут под ручки и все начинают раскачиваться, он поддается безвольно, как тряпичная кукла, и послушно выкрикивает: «Кукук!» Но прищелкнуть пальцами он уже не может.
Цифра и рад бы