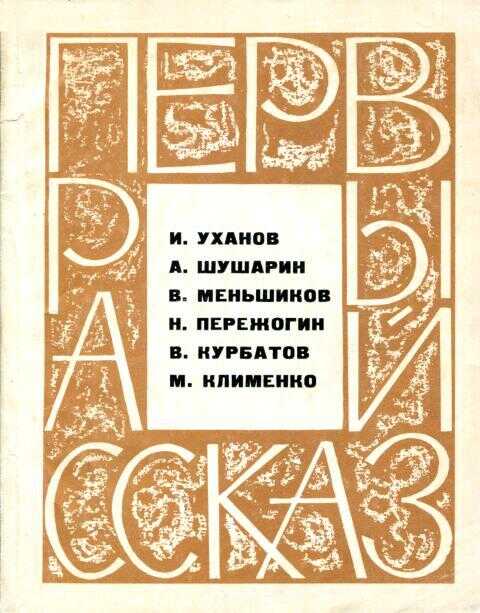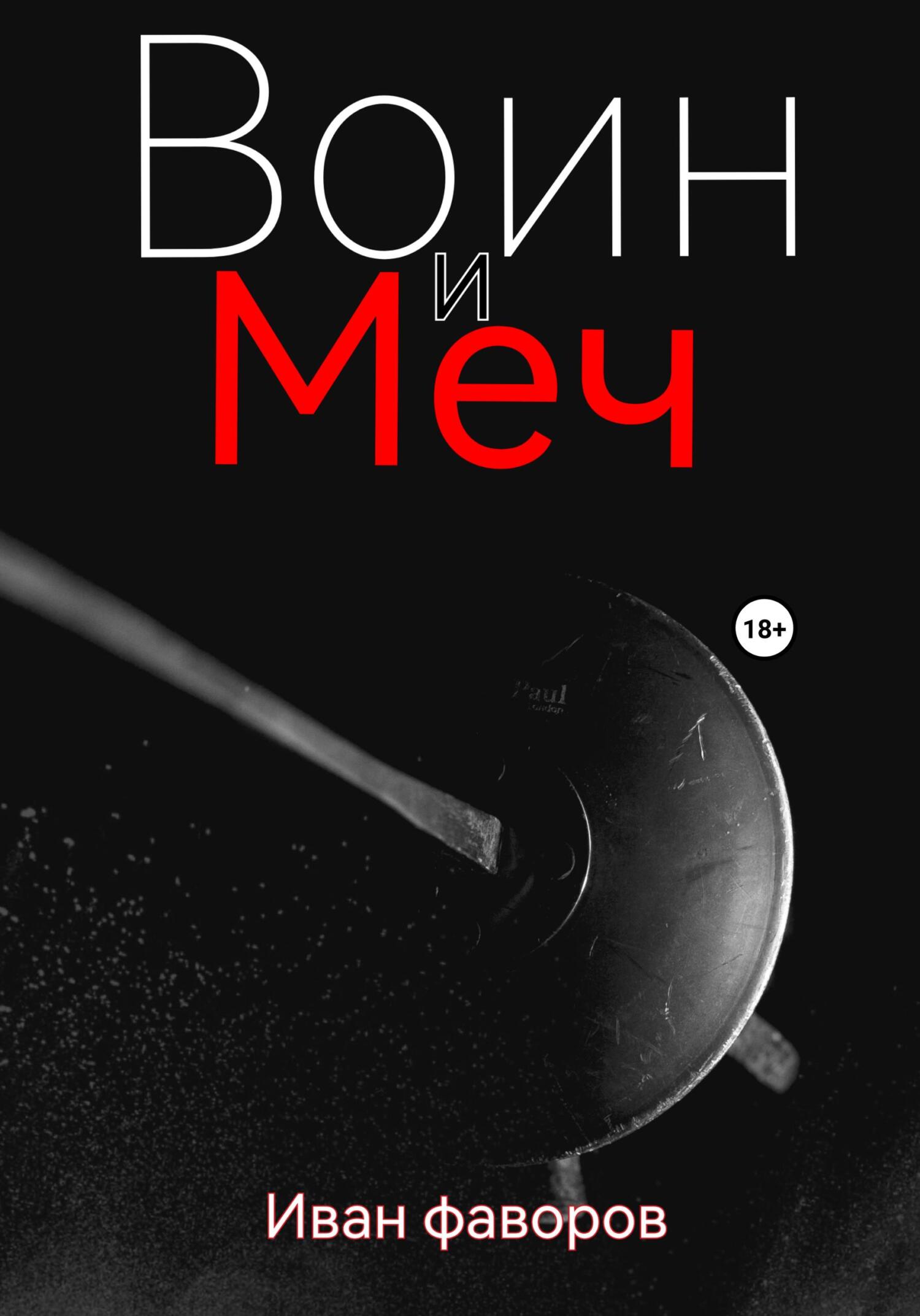половит часа два, заедет в дом отдыха, продаст рыбу, несколько рублей отложит для семьи, а на остальные там же попросит кого-нибудь купить водки, сахара и хлеба и отправится в другой конец затона, где у камышистого берега будет с интересом разглядывать, как стоят на дне, в зарослях водорослей, пестрые щуки, жирные лини, как мечутся за мальком окуни. А потом найдет густую стаю мальков, начнет выкидывать в воду садок и ловить эту мелочь, и кидать в свой бочонок. Вечером поедет домой (так он называет свою землянку на взгорке, под липами), разведет костер. Сварит тройную уху, поест. Отдохнет и сползает к туристам, что приехали вчера на «Волге» и поставили невдалеке от землянки две палатки. Он посидит с ними у костра, послушает, как они спорят и поругиваются, а подвыпив и угостив его, запоют странные, непонятные ему песни о тайге, Севере, моряках…
Ему станет неуютно и грустно у чужого костра. Он молча обидится на них, молодых, умных, уважающих себя, за Степку Тараканова, так и не вышедшего из окружения, за их погибших отцов, за Россию, воспитавшую их, и за себя, черт возьми, такого вот… Он вежливо простится и уползет к себе, и там зажжет свечу, настелет на нары старых фуфаек, допьет водку и запоет тихо и вначале неосознанно горестно, а потом громче, уверенней, свою любимую:
…До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага…
* * *
Назавтра, задержавшись в доме отдыха и подъехав к протоке уже в сумерках, он увидел костер у землянки и хромающего зятя у причала. Зять виновато-загадочно улыбался и прятал глаза.
— Здорово, батя! — взялся за кольцо на носу лодки и вытащил ее по прибитым волной белым лилиям на гальчатый берег.
— Здравствуй, Иван! Ты вроде в субботу обещался приехать? Ребятишки здоровы?
— Да нет, хорошо все. Я вон гостью к тебе привез. Анна выгнала, а меня что-то жалость царапнула. Садись, говорю, повидаешься…
— Ко мне гостья? Ха! Какая гостья?!
— Вон сидит.
Он выбрался из лодки и двинулся к костру. Сперва он увидел на столике поллитровую банку из-под кабачков с букетом ромашек, а затем — у костра, на чурочке, сухонькую седую женщину.
Быстро-быстро из стороны в сторону затолкалось сердце, вспотели и набрякли руки. Он тревожно захохотал.
— Катерина, ты ли?!
— Я, Костя, — сказала она, не вставая навстречу и твердо глядя в глаза ему. — Чего смеяться-то, поздороваться бы надо?
— Ну, здравствуй, Катерина! — сказал он.
— Ты почти такой же, Костя, — слабо улыбнулась она, — только глаза пропил — совсем затихли и покраснели.
— Ну что ты, я крепко живу! Посмотри на меня, какой я красивый, — он подполз ближе к ней, сел, погрел у костра ладони.
В ведре кипела и выбрызгивалась вода, весело горел сушняк под сырыми березовыми поленьями.
Он оторвал взгляд от костра и повернулся к ней.
— Ну, а ты как?
— Да вот наездилась, нажилась… Тебя увидеть захотела, девок… У Анны вон сколько уже ребят. Знаешь, она мне сказала: «Привет, маманя!» и прошла мимо, даже в дом не пригласила…
— А ты думала, она тебе ноги кинется целовать?
— Нет, я не думала так…
— Знаешь, Катерина, я забыл все и тебя забыл… Да и что ворошить старое. Я вначале разозлился, как увидел тебя, а потом смешно стало… А ты совсем постарела…
Подошел Иван, засуетился, вывалил из миски в ведро приготовленную для ухи картошку.
— Батя, где перец?
— В ящичке, в лодке.
— Давайте к столу, отпразднуем это дело. Ты, маманя, не стесняйся, будь как дома…
— Да уж спасибо и на этом.
«Ишь ты, модница, вырядилась… Кофта красная, юбочка узенькая и на высоком… Ишь ты, замерзла, поди? — подумал он почему-то с жалостью к ней. — А косы вовсе белые стали. Эк тебя. Видать, намыкалась».
От воды подбиралась ночная сырость.
— Катя, ты сходи в землянку, там фуфайки есть, надела бы, замерзнешь.
— Спасибо, у меня пальто. — Встала, взяла из люльки мотоцикла пальто осеннее, новое, модное, надела его.
«Все еще красивая, сволочь! А вот поди ж ты, вернулась ко мне!» — радостно подумал он и стал следить взглядом за чайкой, с криком хватающей из воды рыбьи внутренности.
Иван на корме лодки, на лопасти весла чистил окуней. Катерина принесла к столу капроновую сетку, полную свертков, и начала вынимать, разворачивать их, резать хлеб, колбасу, полоскать стаканы.
— Иди к столу, Костя.
— Иду, иду, — сказал он и ловко вскинулся на лавочку к шаткому, наспех сколоченному столику, отодвинул на угол банку с ромашками и стал раскрывать бутылки.
Иван приковылял с рыбой, скидал ее в ведро, подбросил в костер липового сушняка и тоже устроился за столом.
Вскоре поспела уха. Катерина начерпала кружкой в миски, села напротив мужа. Иван разлил водку в три граненых стакана, бутылку кинул в костер.
— Давай, Катя, выпьем за встречу, за молодость нашу, за девок моих, что выросли… Эх, черт! — он посмотрел вокруг. — А я вот здесь живу! Глянь, Катерина, горы какие! А небо? Вот-вот вызвездится… Озеро вон парком задымилось. Все мое! А вон вишь дворец под липами — тоже мой… Да-а… Знаешь, Катерина, а я ведь мог никогда и не увидеть всего этого. И все было бы как сейчас… — он на минуту задумался, но тут же спохватился: — Ты, Катерина, держи стакан, держи…
И сам выпил, запел:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
Катерина молчала. Ее бледное лицо, острое книзу, с поджатым большим ртом и усталыми карими глазами, покрылось румянцем. Он, небритый, с красными прожилками на носу и щеках, с прильнувшими ко лбу серыми прядками волос, тайком и все больше волнуясь, разглядывал ее. Он не знал и не любил женщин, кроме нее.
— А давайте еще по одной? — сказал Иван. — Я выпью за вас. Чего там. Жизнь, она ведь такая, помотает, помотает да и отпустит. — Он отчаянно ухнул, выпил, перевернул стакан кверху дном и встал. — Я, батя, шубу твою возьму, в лодке переночую. Вишь звезды какие! Вон, в камышах, щурята играют, пойду послушаю. А вы тут того самого, поговорите… Выпейте… Я ночь послушаю. Утром часа в четыре домой уеду, а то Анна на работу опоздает.
— Давай, давай! — машинально согласился он, все думая о ней, причинившей ему столько горя.
Костер притух. Где-то трещала моторка, хлопали на воде весла и скрипели уключины, смеялась женщина. В траве на берегу