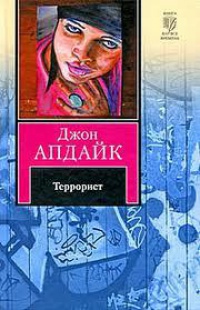(так показалось Чадину) поглядывали на него, пришельца. Он со всею предосторожностью снял одну рукавицу, навел фотоаппарат, прицелился и щелкнул.
Сойки, пискнув, сорвались с веток и сиганули в чащу. «Не их ли мы называли сизоворонками? — припомнил Чадин то далекое время, когда он подростком вспугивал таких же птиц в родных лесах. — Так-с, один кадрик готов».
И он испытал мгновенное чувство чистой, почти детской радости. Самому даже удивительно как-то стало.
Спустя полчаса Чадин вышел именно туда, о чем толковала Настя. Вот оно, русло старого ручья, «канава там под снегом и хожено нашими…» Отсюда открывался великолепный вид на ущелье меж крутых сопок, синевшее морозным туманом. Солнце уже наполовину освещало левый склон ущелья, а правый весь был в тени. Чадин полюбовался видом и двинулся по ручью, поросшему по берегам метелками травы, камыша и кустарника; сухой лед под снегом кое-где с треском проламывался, и лыжнику чудилось, что он на всю тайгу наводит шороху и треску.
В одном месте он заметил клюквенно-красные гроздья калины и не утерпел: нарвал в рюкзак мерзлой, глянцевито-гладкой ягоды, несколько ягод положил в рот и разжевал: ледяная, горьковато-винная мякоть приятно освежила во рту. «Ка-али-ина кра-асная, ка-а-ли-на сла-адка-ая…» — пропел он, вспомнив почему-то шукшинский фильм. От мороза слипались ноздри, коченел подбородок, и Чадин пухлой ладонью погрел кончик носа и щетинистые, жирные щеки. «Жаль, Ули нет тут со мною», — искренне и неожиданно пожалел он, и отчего-то эта мысль о ней, именно о ней, а не о жене, тихо и радостно взволновала его. Эта наивная, скромная Уля… В этот миг она показалась ему дороже всех на свете. Уж не влюбился ли он? Чадина кольнуло в сердце, и оно заныло, забилось. Вот ведь как! Ай-яй, официант Чадин, то ли ты поглупел, то ли поумнел, но так-то вот…
И долго он потом шел, и все перед его глазами маячила несравненная Уля, Уленька…
Теперь хорошо были видны крутые склоны сопок, скалистые уступы и мелколесье, пронизанное солнцем.
Однажды он заметил невысоко слева, на скале среди редких елочек, нечто серое, мелькнувшее и пропавшее из виду так быстро, что он не успел разглядеть это «нечто», но он не сомневался в одном: проскочил какой-то зверек. Чадин напряженно стал наблюдать за скалистым выступом, забыв обо всем на свете и не спуская глаз с того места. И вот опять, опять мелькнуло между елочек серенькое живое существо! «Косуля или кабарга, или…» — растерянно подумал он и мигом сбросил рукавицы в снег; никогда еще не казалось ружье таким легким ему, никогда еще не стучало так бешено его сердце…
Но сколько он ни вглядывался — ничего больше не видел. Однако продолжал стоять, приходя в себя от той алчной вспышки подстрелить дикое животное и уже как бы стыдясь немного этой алчности. Откуда она? Ведь сыт же он, нет же ведь жестокой необходимости убивать беззащитное животное, а вот как вспетушился…
И он повернул назад. Солнце теперь светило ему в спину, он шел, углубившись в себя и едва передвигая лыжи. Он уже притомился, и все вокруг поблекло для него, будто утратило свою новизну. Каким же рыхлым субъектом он стал! Во всех смыслах. А был… Он всегда думал: главное — не разбросаться, не распылить свои чувства, не потерять себя; ибо есть общеизвестное правило: если человек знает, что идет туда, куда зовет его сердце, и делает то, что велит ему его совесть, тогда он испытывает настоящую радость и любовь ко всему, что его окружает.
— Дьявола тебе лысого! — ругнулся он и приостановился, доставая зажигалку и сигару; потом опять пробурчал: — Покури, остынь…
Едкий дым сигары подстегнул его, он взбодрился немного, обвел взглядом сопки, величественные, залитые солнечным светом, хранящие загадку своей суровой красоты; и тут на него вновь нахлынуло счастливое просветление: он вспомнил сегодняшний сон и увидел себя снова таким же, как во сне, и будто силы у него прибавилось… Он подумал о Максиме, сравнил себя с ним. Хотя какое тут к черту сравнение! И Настя вот… И он опять им позавидовал. «Ну хорошо, горожанин ты… дефективный, — съязвил он, обращаясь к себе, — кто ж тебе мешает жить так? Чему ты завидуешь? Кто виноват, что ты, живя с женою, не находишь в этом радости?»
И он понял всю тщету попыток оправдать себя. Сам он во всем виноват. Ну и довольно об этом! Каждому — свое. Как это там: кесарю кесарево…
Усмешка покривила его охолодавшие губы. Он приналег на палки; фотоаппарат болтался на его груди, ружье колотило по бедру, дыхание белым паром вырывалось из его открытого рта. Вскоре он запыхался и сбавил темп. Он возвращался по своему же следу и удивлялся, как далеко зашел. К тому же он изрядно проголодался. «Если каждый день делать такие вылазки — я выдавлю из себя жирок, — думал он. — Меня и не узнают, как вернусь».
Вечером Максим пригласил Чадина поглядеть на их автохозяйство. В огромном кирпичном гараже, обогреваемом котельной, стояли грузовые машины разных марок, и среди них ЗИЛ Максима особенно выделялся. И по тому, как он обращался с машиной, называя ее «моя ласточка», Чадин понял, что Максим бережет ЗИЛ пуще своего глаза. Заметно было, что ему доставляет удовольствие копаться в моторе, наводить порядок в кабине и вообще выполнять всякую работу по уходу за машиной с хозяйской старательностью. На проволоке, натянутой от одной металлической опоры до другой, напротив ЗИЛа висел вымпел — красный треугольный флажок с серебристой надписью: «Передовику социалистического соревнования».
Попозже все собрались в диспетчерской; сдавали путевые листы, курили, вели обстоятельный разговор о ремонте, о том, «у кого что барахлит и сколь тыщ кэмэ уже накрутило».
Максим говорил меньше всех, и то, если к нему обращались, а спрашивали у него больше, чем у кого-нибудь другого, и всем он отвечал коротко и точно; в этом коллективе он, видно, пользовался заслуженным уважением.
И Чадину удивительно как-то было, что и к нему, совсем постороннему человеку, все здесь относятся так, словно он не сегодня завтра тоже будет работать с ними рядом.
А когда они шли вдвоем по морозно-звонкой улице, с горящими кое-где лампочками на столбах, и Максим обмолвился о своей работе, дескать, «машина уважает надежные мужские руки», Чадину вдруг стыдно стало, что он, такой лоб-мужик — официант, и тут же его захлестнула отчаянная мысль: кинуть все в городе и сюда — на постоянное местожительство.
Но этот план через минуту-другую уже показался ему несбыточным. Это ж риск: жизнь свою повернуть вспять!.. Кажется, у Сент-Экзюпери он вычитал,