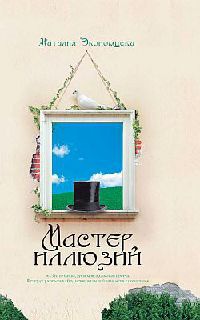Переворачиваю страницу, другую. Даже книга пылит. Пыль — цена прожитой жизни. Не в смысле что жизнь гроша ломаного не стоит, а что расплата приходит пылью. Но что мне теперь пыль? Не стану же я отодвигать катафалк и с тряпкой корячиться, выгребая из-под него хлопья? Резонов пока не вижу. Вот и лежу, как мадонна, полупрозрачная, с глазами, упертыми в дальний угол. В углу уже полно паутин, и на каждой сидит хозяин. У кого тощее брюхо свисает, у кого ноги из головы растут. Покачиваются в своих шелковых гамаках в ожидании жертвы. А напрасно. Инсекты давно передохли. Кроме меня, здесь никого нет, а я пока еще не в том состоянии, чтобы попасться. Поэтому пауки — бестелесные, почти что прозрачные. Некоторые вообще усохли от ожидания. И уйти не уйдешь, и остаться — обречь себя на погибель. А я ничего не жду, и в этом моя сила.
Отслюнявливаю следующую страницу. Там идет речь о каких-то перепончатых существах, прозванных «лягушатниками». Переворачиваюсь на другой бок, чтобы, на всякий пожарный, иметь дверь на виду. Мало ли что? С окном-то в порядке, никто не влезет, давно уж заклинило. А стекла такие грязные, что ничего и не видно; не знаю, что на улице происходит. Впрочем, и ладно. У паука, пока я читала, родились паучата. Штук тридцать. Паучихи не вижу, возможно, сбежала, испугавшись ответственности, поэтому паук вскармливает паучат сам, как умеет. Он носится по своей паутине, заламывая в отчаянии ноги. Но это только догадка — про паучат. Кто его знает, родились ли они? А если и родились, то еще слишком малы, чтобы быть отличимыми от пылинок, поэтому я и лежу, как Брунхильда на катафалке, с целью не раздавить. Лежу без движения, чтобы потомства паучиного не покалечить и чтобы паук в руки своих сыновей мог паутину по описи передать. Хотя зачем молодым старая отцовская паутина с немодным плетением? Переворачиваю страницу — так, наугад, как Достоевский каторжное Евангелие. И — бац! Он в «трупа» влюбился. И ничего ему больше не надо — ни власти, ни денег. Время — остановилось, потому что «у любви нет времени» (цитата, заимствованная у одного автора). Поэтому я и лежу, как тот труп из книги, время-неприкасаемая. Времени, чтобы быть, нужны жертвы, а я выбыла, меня не догнать, так как я — больше не убегаю.
Господи, а второй лягушатник все мечется по этажам, стенает и воет. Такие книги на ночь читать нельзя, не заснешь. Впрочем, я и не знаю, день ли сейчас или вечер. Стоило бы, конечно, расчистить маленький пятачок на оконном стекле, как надышанное оконце в узоре мороза. Валяюсь в сырой сорочке, словно утопленница, от страха вся взмокшая. Волосы слиплись на лбу, холодными струйками течет пот…
Дверь медленно надвигается на меня, отворившись сначала на щелочку. Открывающего я не вижу, хотя кто-то дверь держит, иначе бы хлопнула — из-за тугой пружины. Дверь растворяется широко, а придержателя как не было, так и нет. Напротив спальни, у стенки узкого коридора стоит человек. Так, ничего особенного — в черном костюме, белой рубахе, при галстуке. В правой руке — портфель. Человек среднего роста, среднего возраста, с невыразительным стертым лицом. «Вы кто? Вы зачем? Вы тут заблудились?» — так, для отвода глаз, спрашиваю, а у самой из-под бабушкиного чепца пот струится ручьями. Человек перекладывает портфель в левую руку и застывает в прежнем своем положении. «Ах! Понимаю! — пробую заново. — Соседняя с моей дверь на площадке — в нужный вам офис. Там и табличка висит. Выйдете — и налево. Не ошибетесь». Человек переступает с ноги на ногу четко и звонко, будто бы цокает. «Вы страховой агент или агент по недвижимости, — я принимаю рассерженный вид. — А здесь частный дом, вам здесь не место, вон попрошу отсюда». Человек дергает шеей в крахмальном воротничке. Он очень бледен, почти как белая меловая стена, к которой он прислонился. «Вам что, собственно, надо? Вы что „представляете“? Тень отца Гамлета?» — кричу я, швырнув в него книгой, схваченной с пола. Книга не долетает, падает у его ног, поднимая столбы серого дыма. Человек наклоняется, брезгливо, через платок, берет книгу и опускает ее в свой портфель. «Ты чего? — ору я. — Книга библиотечная! Там штамп — посмотри!» Он защелкивает замок и поднимает на меня глаза, полные безразличного понимания. «Что же за сволочь такая! Мало того что приперся, а я тут лежу в сорочке прозрачная, имею право, я дома, так еще и книжки ворует!» Человек в знак согласия усердно кивает и переводит взгляд на дальнюю паутину. Паук с криком срывается, падает мне на живот и самой длинной дрожащей ногой начинает прощупывать по окружности.
«Вот, вот, — облегченно говорит человек, — так всегда. Сначала на „вы“, а потом сразу „сволочь“!» — «Что-что?» — переспрашиваю, в ужасе сощелкивая паука, который летит кувырком, но в полете хватается за слюну, свисающую с паутины. «Сволочь — мое имя. Я же такого нрава, что без прямого обращения к моей персоне заговорить не решаюсь. Теперь же, поскольку мы с вами уже знакомы, позвольте предъявить вам счета». — «Какие еще счета? — спрашиваю. — По счетам я выплачиваю исправно. Сделаю какую-нибудь гадость, а потом полжизни плачу. Вот, для примера, пожелала одной скотине, чтобы та подвернула ногу, а потом эту ногу, „нечаянно“ поскользнувшись, сама и сломала, а затем — и так на года — занималась безногими и хромыми, которых вынужденно выгуливала. Я наперед уже знаю, что если и захочу сделать гадость, то не смогу себе ее позволить, дороже станет — мне все в строку. А вот другие, я замечала, что бы дурного ни совершили, им это в вину не ставится. Даже наоборот, как плюс засчитывается».
«Дурные помыслы и дела не по нашему ведомству, — сказал парнокопытный мужик, — они у нас полагаются по уставу, и им надлежит строго следовать. Устав есть устав — исполняй и не рыпайся. У нас же к вам счеты за добро, которое вы преступно рассеиваете». — «Здрасьте, — сказала я, — это как получается? Перед теми, небесными, отвечать за содеянное зло, а перед вами — за добро, что ли?» — «Отвечать нужно за все, в зависимости от инстанции», — подтвердил кентавр Сволочь. «А вы какую конкретно инстанцию представляете?» — «Я пристав шестьдесят шестого дробь шесть участка на Нью Бист энд Файэр, и мне там поручено…» — он щелкнул замком портфеля, пригнулся, вслепую в недрах пошарил и вытащил начальственную бумагу. «Вам огласить списком или поштучно?» — «Давайте поштучно», — попросила я. «Извольте: испекла на поминки старого друга пирог с рыбой, не взяв за это ломаного гроша, сказав — здесь цитата, — что „я знала покойного с детства и поэтому не могу брать с вас денег“. Потом еще…» — «Что за пирог? Не пекла я никакого пирога! Я вообще печь не умею! Зачем вы клевещете?» — крикнула я с места.
«Минутку, минутку, — всполошился озадаченный пристав, — вас зовут… Сюзанна Блэйм… нет, вас не зовут Сюзанна Блэйм… Простите, ошибочка, не то выудил… Бюрократия насмерть заела — бумаг-то, бумаг! Одних циркуляров и постановлений — тысячи, вы не поверите! А тут еще иезуитские правила нам ввели — Политкорректность и прочее. Черт ногу сломит. Как обращаться с дамой, а как с девицей. Да откуда мне знать, порченая ли она? Я что — проверял? Как, по-вашему? Или еще, третьего дня, начудили. Разослали вопросники, а там вопросов под двести. Вот так, для примера: Вопрос: На основании ваших хождений по кругам человечьего ада могли бы вы указать на то гиблое место, которые не устанавливается эмпирически, потому что далеко не все заинтересованные инстанции с одинаковым рвением реагируют на флуктуации, вызванные вторжением „атомов зла“ в атмосферу? Вы поняли, о чем они спрашивают? Лично я — нет. А тут еще и отчетность за каждого приписанного клиента! Сколько добрых дел из-за бумажной возни с носа на круг проворонили! А превентивная пропаганда, ею когда заниматься? Я вам сейчас, кстати, из агитлистка отрывочек продекламирую, чтобы хоть это из головы вон». Парнокопытная Сволочь откинул голову и, как заправский чтец, выбросил вперед руки. «Погодите-погодите, — сказала я, потеряв нить. — А как же я? Где же мой список?»