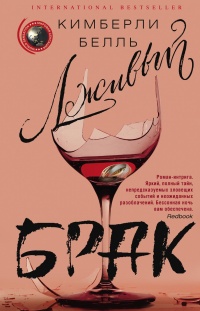но проглатывает слова. Я несу ее, а она утыкается лицом мне в грудь под рубашкой. Однако малышка не кушает, просто тыкается мне в грудь.
Я протягиваю ему тарелку с бутербродами и пакет соленых чипсов.
– Как ее депортировали? – спрашиваю я.
Он чавкает с открытым ртом и смотрит на меня, хмурясь.
– Мою сестру.
– А мне почем знать? – отвечает он. – Нелегалкой была. Ей тут не место, поэтому вышвырнули ее вон, Фрэнк Трассок говорит, такое постоянно случается.
Ленн смотрит на мою малышку, которая отвернулась от его пристального взгляда.
– Ты когда купаться пойдешь?
Я застегиваю рубашку и отворачиваюсь от него. Что за человек такой? Что за животное?
– Нескоро, это как рана, она должна зажить.
Он молча ест, потом оставляет тарелку на столе и пустой пакет из-под чипсов и уходит.
Я стою у входной двери, солнце греет мое лицо.
– Однажды ты пойдешь по этой дороге, малышка, – говорю ей. – Ты отправишься в свою жизнь, прочь от этого кошмара. И я буду рядом с тобой. Но пока этот день не настал, мы будем вместе, и я буду твоей, только твоей.
Вдалеке проезжает грузовик, между нами ядовито-зеленые посевы, они так сильно разрослись, что я не вижу ни одного коричневого пятна. Я выхожу и оглядываюсь. Дует теплый ветерок. Земля – вся, от моей сломанной ноги до самого горизонта, – принадлежит ему. Он определяет, в каком мире мне жить. Пройдя несколько шагов, прислоняюсь к навесу и накрываю голову дочери ладонью, чтобы заслонить ее от солнца. Небо принадлежит мне. Он не имеет права на небеса, не бурит и не собирает урожай. Никакого влияния. Это его земля, но небо – мое; ее и мое. Горизонт, тонкая полоска, где они встречаются, – вот и все, что у нас есть.
Я укладываю дочку на покрытый пластиком диван и обкладываю подушками, пока стираю тряпки. Ей требуется восемь в день, а мне – три, так что приходится постоянно быть начеку. Лошадиная таблетка работает в полную силу, и боль от раздробленной лодыжки словно находится в другой комнате, может быть, там, в полуподвале, подо мной, все так же рядом, но между ней и нами что-то есть. Развешиваю мокрые тряпки на веревке на деревянные прищепки его матери и проверяю, как дела у малышки. Скоро мне нужно будет дать ей настоящее имя. Мой воспаленный мозг рвется назвать ее Ким Ли. Но это эгоистичная мысль. Плохая мысль. Я потеряла сестру, признаюсь, и назвать ребенка в ее честь было бы дешевым утешением. Я должна сопротивляться этому желанию. Это как если бы вы потеряли дорогого питомца и тут же захотели купить на замену ему щенка, дать ему то же имя, а потом остановили бы себя. Я подумаю о других именах сегодня вечером, в спокойное время кормления.
Я так и не прочитала письма, потому что они меня сломают. Я хочу прочитать их как криминалист, чтобы понять, как смогла принять два года ее писем за семь.
Моя малышка зовет меня, я сажусь к ней на диван и кормлю ее. Она очень голодная, ее губы сразу же находят мою грудь. Она словно подталкивает мое тело, заставляя его вырабатывать больше молока для нее, и когда я смотрю на нее, то вижу Ким Ли. Это естественно. В детстве я заботилась о Ким Ли, словно была ее второй мамой; я помогала нашей маме, стремилась помочь ей. Но здесь, в этом забытом ветрами месте, у моей малышки есть только я.
Я не буду сокращать дозу таблеток. Знаю, обещала сделать это ради ребенка, но я не могу сейчас сорваться. Я не могу рухнуть. Так что пока буду принимать три четверти. Я буду в порядке.
– Иди-ка посудой займись, – говорит Ленн, входя в комнату с пакетами из «Спара» в руках. – Черт-те что на улице творится.
Я иду к двери.
– Мэри со мной оставь, – приказывает он, забирая малышку. – Вот так, Мэри, иди к отцу.
Ты ей не отец. Ты ничто. Ее семья – это я.
Я поворачиваюсь и, ковыляя как могу, выхожу на улицу и сдергиваю влажные тряпки с веревки, чтобы деревянные прищепки разлетелись во все стороны. Возвращаюсь в дом, моя правая лодыжка волочится по грязи, бросаю тряпки, тряпки его матери, на стол, забираю дочку у Ленна и шепчу ей по-вьетнамски, что теперь все хорошо.
– А ну-ка заканчивай давай, – говорит он. – Это Англия, и она будет говорить по-английски, как я и все мы. Не потерплю этой иностранщины, не морочь ей голову!
Киваю, но в моем взгляде ледяная сталь, и я буравлю его лоб. Я буду говорить с моим ребенком так, как считаю нужным, и твое слово здесь пустое место.
– Давай рыбу ставь, – бросает он.
Я растапливаю печь, подкладываю ивняк и убираю продукты. Я умоляла его купить кое-что для ребенка, но Ленн так и не купил. Он покупает то, что, по его мнению, нам нужно: нарезанную ветчину, туалетную бумагу, чипсы и печенье Rich Tea. Но он не хочет покупать одноразовые подгузники, влажные салфетки и детские кремы. Ленн говорит, в «Спаре» таких вещей нет. Он говорит, они нам не нужны.
Когда огонь достаточно разгорается, я отвариваю треску в пакете в соусе из петрушки. Мы съедим ее за столом, когда Ленн просмотрит записи. Мы обедаем в тишине, с замороженным зеленым горошком и вареным картофелем. Я голодная как волк. Вчера вечером я съела полпачки печенья Rich Tea и выпила целый кувшин воды, когда кормила ребенка. Голод был неимоверным. От меня и от дочери исходит тепло, энергия, сила, круговорот молока и еды, и мне нужно продолжать подпитывать этот огонь.
На десерт он купил бисквитный рулет Arctic Roll. Это что-то вроде сладкого пирожного, обернутого вокруг столбика мороженого. Ленн иногда покупает его. Оно ему нравится. Мы едим, и у меня начинает болеть задний зуб, как будто кто-то колет его иголкой.
Спинка у малышки красная. Я купаю ее в ванне, подставляя руку под все тело. Я хочу использовать горячую воду, потому что в жаркие дни мы даем плите утихнуть после ужина, иначе не сможем заснуть. Я проверяю воду, потому что она льется из крана обжигающе горячей, и в первый раз купаю мою дочь. Она кричит, а я улыбаюсь и успокаиваю ее. Затем заворачиваю ее в полотенце и поднимаюсь с ней медленным шагом, держась рукой за перила, чтобы спасти нам обеим жизнь, и несу ее в маленькую спальню. Я дую на ее кожу, складываю свежую ткань, чтобы получилась