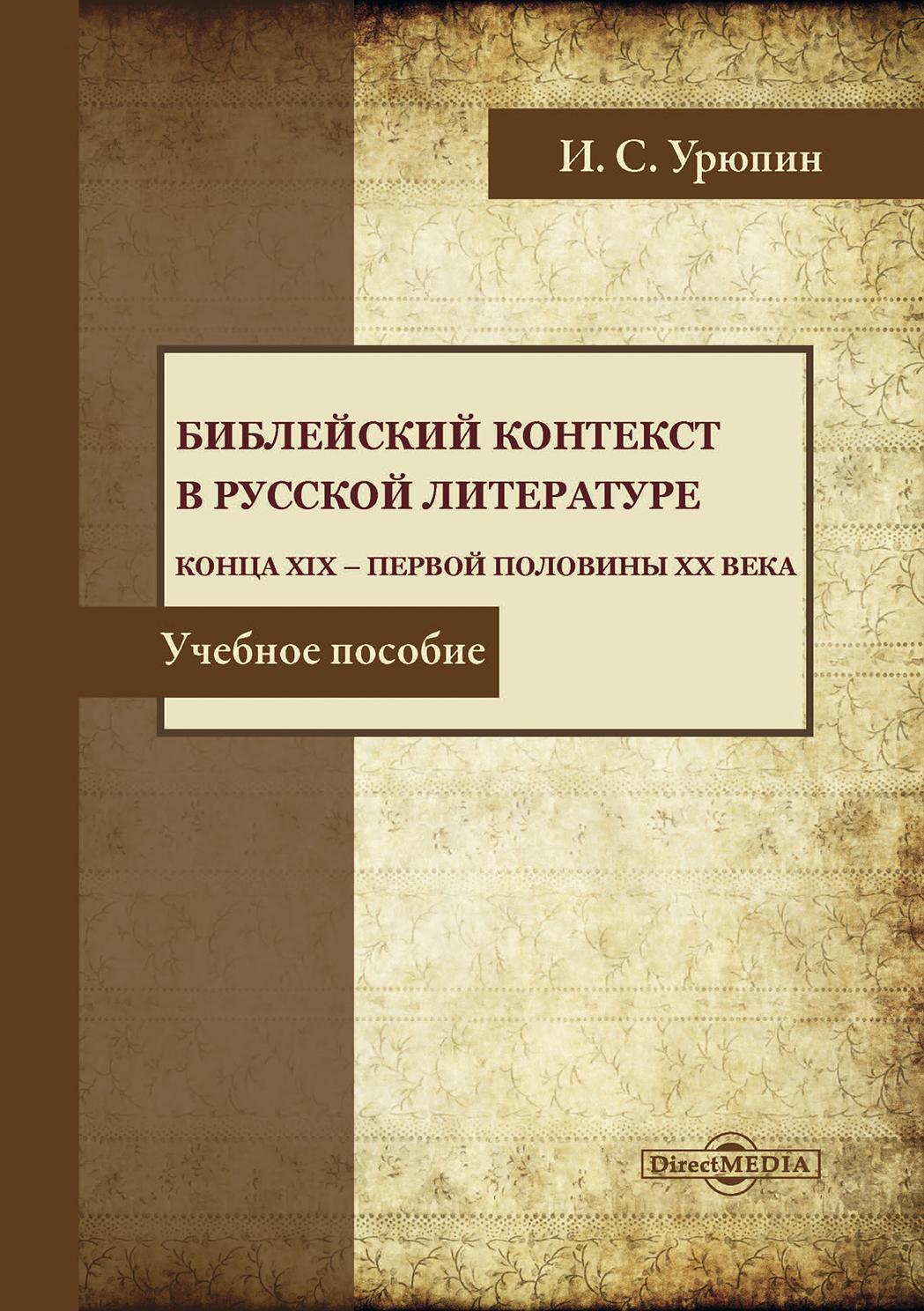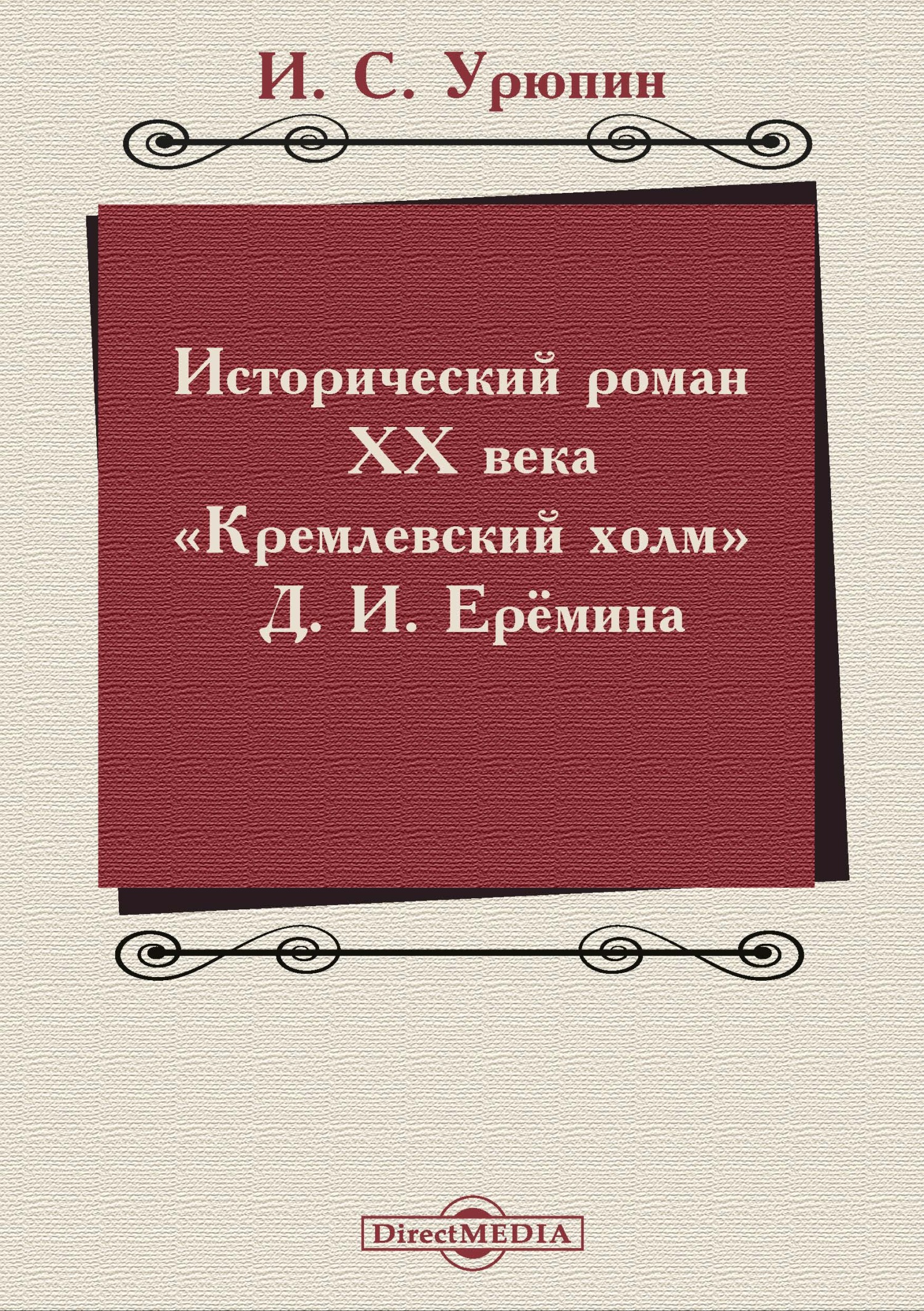этом Федоров следует не только немецкой натурфилософии, но и русской радикальной мысли, которая, вопреки общему мнению и своим собственным теориям, объединяла искусство и жизнь, то, что есть, и то, что должно быть. Как отметила И. Паперно, «радикальная реалистическая эстетика, несмотря на то что проповедует отделение искусства от реальности, вдохновила всестороннее проникновение литературы в жизнь, вполне сравнимое с тем, что было в эпохи романтизма и символизма с их сознательным стремлением соединить жизнь с искусством» [Рарегпо 1988: 12]. Федоров называл свое дело проектом, противопоставляя его чисто рассудочным схемам. Проект, по Федорову, — это своего рода мост между идеализмом и материализмом [Young 1979: 90]. Идеи, которые «существуют в наших делах как проекты», должны быть реализованы в материальном мире [Там же: 90]. Философ начисто отрицает жесткие границы между сферами жизни, включая духовную и материальную ее стороны. Он считает, что с помощью физики можно объяснить принципы этики, и, наоборот, при осуществлении дела «науку нельзя отделить от морали» [Lord 1970:180]. «Вопрос о преодолении “неродственности” между людьми нельзя отделять от “слепоты” природы в отношении нас» [Зеньковский 2001: 568], и эта установка позволяет нам понять эрозию почвы и как эрозию морали. Разъединение небесных тел во Вселенной и жизнь во грехе тесно переплетены — примеры можно умножать. Все это означает, что только созидательное единство может служить эффективным оружием против распада, вызванного смертью.
Когда все формы дезинтеграции и фрагментации уступят место целостности, исчезнет и смерть (см. [НФ 1: 9; 2: 407, 414]).
При таких предпосылках неудивительно, что Федоров считает участие в деле обязательным для всех без исключения. В броне людской солидарности не должно быть ни единой щели, через которую могла бы проникнуть смерть (см. [НФ, 1: 290–291]). Без непременного всеобщего участия и без чувства родственности, объединяющего всех и каждого, дело обречено на провал. Если марксисты выступали за солидарность с рабочими всего мира, народники стремились слиться с крестьянским людом, а христиане проповедовали братские чувства только к тем, кто разделял их вероисповедание, то Федоров настаивал на родстве со всеми членами человеческого сообщества прошлого, настоящего и будущего без единого исключения. Воскрешены должны быть все мертвецы до единого — и все живые до единого должны быть воскресителями. «Дело» сулит бессмертие атеистам, язычникам, нехристианам, грешникам и даже тем, кто не хочет для себя вечной жизни, — такое нежелание Федоров считает недоразумением или самообманом, так как в самом деле никто не стремится умереть. Когда не будет ни болезней, ни поводов к отчаянию, никто не захочет смерти, а общее дело, конечно, обещает, что так и будет. Смерть существует «по общей вине, по вине всех» [НФ 2: 441] и может быть устранена только при участии всех и каждого.
Но как обеспечить такое абсолютное, тотальное и всеобщее участие в деле всех без исключения? История человечества показывает, что без обещания личной или национальной выгоды, то есть без поощрения эгоизма и патриотизма, трудно обеспечить сотрудничество большинства людей. Так как Федоров не одобряет принуждения, взамен ему должна выступать сильная мотивация. Ее обеспечит православие — единственная религия, которая «сокрушается о разъединении» [НФ 1: 113; 401]. Православная вера разрешит дилемму альтруизма и эгоизма, убеждая в том, что упразднение смерти выгодно всем без исключения: и тем, кто умер и умрет, а потом будет воскрешен, и тем, кто не умрет, приобретя бессмертие участием в общем деле. Поэтому конфликты интересов между участниками дела исключены: все получат одну и ту же награду бессмертия и, полагает Федоров, никто не может всерьез стремиться к смерти. «Разумный эгоизм» Чернышевского также играет роль в этом контексте: все вложили свою долю в общее дело — и те, кто страдал от болезней и страха смерти в прошлом, и те, кто видит, что их труд скоро будет награжден бессмертием[55]. Философ не считает самопожертвование как таковое высшей добродетелью. Бескорыстное самопожертвование всегда предполагает некоего реципиента — того, кто пользуется плодами самоотверженного деяния [НФ 1: 29], и самоотвержение такого рода, безусловно, поощряет чистейший эгоизм. Но в общем деле даже такое самопожертвование исключено, так как все будут бессмертны.
После победы общего дела
Бог создал человека «по образу и подобию своему», то есть всеведущим, всемогущим и бессмертным. Человечество не сумело жить так, как того желал Бог, и потому утратило эти свойства. Но Бог дал человеку разум, волю, сознание и «мастерскую природы» в базаровском понимании [Львов 1977: 179] и теперь, как и всегда, хочет, чтобы человек вернулся к своему истинному бытию. «Неведение есть величайшее преступление, наказуемое смертной казнью» — таков девиз Федорова; а знание дано человечеству как путь к спасению [НФ 2: 278, ср. 2: 243].
Богоподобный человек Эдема имел органы, которые позволяли ему перемещаться между галактиками и чувствовать себя как дома повсюду во Вселенной, но утратил их, когда поддался силе земного притяжения и попал в зависимость от собственной плоти. После грехопадения человек сделался неотличимым от животного, был прикован к земле и не знал звездного неба над головой. Однако «царство человека — не от мира животных» [НФ 2: 265]. Он снова встал на ноги, приняв свойственную его телу вертикальность [НФ 2: 269–270], возможно сохранив в глубине памяти свою былую истинно человеческую суть. В результате он обрел знание о подлинном своем доме — небе над головой. Хотя он все еще осужден на превращение в падаль, распластанную в горизонтальной позе «поражения и отдачи» [НФ 2: 254, 270], он тем не менее стал вертикальным существом, готовым бросить вызов дурной закономерности.
Физическими усилиями обретя вертикальность, борясь со сном, несущим слепую бессознательность, и с плотским влечением к «мясу», всячески сопротивляясь горизонтальности смерти [НФ 2: 269–270], человек открыл для себя возможность снова развить те качества, которые некогда делали его существом космического бытия. Отправившись «на небеса» в космическом корабле, который прежде был Землей, запертой в круге вечного возвращения, человек примет вызов овладеть бесчисленными «иными мирами», влекущими его ввысь ко все более дальним звездам. Федоров предвидел время, когда «ныне бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие звездные миры» [НФ 2: 205] станут «родными, а не чужими» во Вселенной, основанной на всеобщем родстве. Уже когда человек встал лицом к небу и возвел вертикальные монументы мертвым как знак протеста против их выпадения из жизни [НФ 2:239-40], он начал мечтать и молиться о возвращении умерших; теперь же в его распоряжении путеводитель к звездам — «философия общего дела». Науки и искусства, реализованные в трудовых деяниях, дадут в