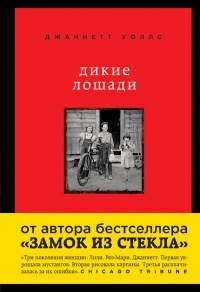Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
Медленно шествует процессия мертвяков. По булыжной дороге кого-то везут на телегах, кто-то сам бредет, шатаясь. Колонна за колонной мы заполняем площадь австрийского города Вельса. На нас глазеют жители. Мы выглядим устрашающе. Ни один из нас не произносит ни слова. И площадь задохнулась от нашего молчания. Горожане разбегаются по домам. Дети закрывают глаза. Мы прошли сквозь ад только затем, чтобы стать для людей ночным кошмаром.
Очень важно есть и пить. Но не слишком много и не слишком быстро. Легко можно переесть. Некоторые не в состоянии удержаться. Выдержка покинула нас вместе с мышечной массой, растворилась, как и наша плоть. Мы голодали слишком долго. Позже я узнаю, что девочка из моего города, сестра подруги моей сестры Клары, вышла живой из Аушвица и умерла от переедания. Для нас в равной мере смертельно опасно оставаться голодными и начинать утолять голод. Это благо, что время от времени я теряю силы, необходимые для пережевывания пищи. Именно поэтому к лучшему, что у американских солдат не слишком много еды, в основном конфеты «Эм-энд-эмс» – те самые разноцветные горошины, на которых я заново училась есть.
Никто не хочет нам давать приют. Гитлер умер меньше недели назад, всего несколько дней остается до официальной капитуляции Германии. Кровопролитие, когда-то накрывшее всю Европу, пошло на спад, но время все еще военное. Все еще нет ни еды, ни надежды. Все еще мы, выжившие, мы, бывшие пленники, так или иначе остаемся врагами. Паразитами. Отребьем. Антисемитизм не заканчивается с войной. Американцы приводят меня и Магду в дом к немецкой семье: мать, отец, бабушка, трое детей. Здесь мы будем жить, пока не окрепнем для дальнейшего перемещения. «Будьте осторожны, – предупреждают нас солдаты на ломаном немецком. – Мир еще не наступил. Случиться может что угодно».
Родители убирают все семейное имущество в спальню, и отец демонстративно запирает дверь. Дети по очереди пялятся на нас и убегают к матери, пряча лица в ее юбке. Мы всего лишь бездушный объект, притягивающий их взгляды; мы средоточие чего-то страшного. Я привыкла к отношению эсэсовцев: их хладнокровной, доведенной до автоматизма жестокости, противоестественной оживленности при виде наших страданий, что свидетельствовало об их упоении своей властью. Привыкла к тому, как все ими творимое возвышало эсэсовцев в собственных глазах, что говорило о необходимости оправдывать свои действия, ощущать свою значимость, постоянно подтверждать свое целеполагание и целеустремление, свое право вершить расправу. Но как ребенок видит нас, его отношение к нам – это не идет ни в какое сравнение. Это бьет сильнее. Своим существованием мы оскорбляем их детскую невинность. Да, именно так хозяйские дети смотрят на нас – будто мы отступники, нечестивцы. Их потрясение намного горше, чем ненависть и отвращение.
Солдаты отводят нас в комнату, где мы будем спать. Это детская. Мы сироты войны. Меня укладывают в деревянную кроватку с боковыми стенками. Настолько я крошечная – вешу тридцать два килограмма. Я не могу ходить самостоятельно. Я как маленький ребенок. С трудом думаю на языке. За меня мыслят боль и нужда. Я готова заплакать, чтобы только меня обняли, но обнимать некому. Магда сворачивается клубком на маленькой детской кровати.
Шум за дверью проникает сквозь сон. Покой оказался недолговечным. Мне страшно. Боюсь того, что было. И того, что может случиться. Звуки в темноте воскрешают в памяти образы того раннего утра, когда за нами пришли: мама, прячущая «чепчик» Клары в карман пальто; папа, оглядывающий на прощанье нашу квартиру. Я прокручиваю прошлое и вновь переживаю утрату дома, потерю родителей. Рассматриваю деревянные перекладины кроватки, пытаясь уговорить себя еще немного поспать или хотя бы просто успокоиться. Но шум не прекращается. Топот и грохот. Дверь распахивается. Свет из соседнего помещения нарушает темноту комнаты. Вваливаются два американских солдата. Натыкаются друг на друга, налетают на небольшую этажерку. Один из вошедших, смеясь, показывает на меня пальцем и хватается за свой пах. Магды нет. Я не знаю, где сестра. Не знаю, достаточно ли она близко, чтобы услышать меня, если придется кричать. Может быть, подобно мне, она где-то съежилась от страха? Слышу мамин голос: «Не вздумайте терять девственность до брака». Мама начала внушать это еще до того, как я узнала, что такое девственность. Правда, знать было не обязательно. И так понятно, что речь идет о какой-то опасности. Не испорть себя. Не разочаровывай меня. Но сейчас я так уязвима, что любое грубое прикосновение может не столько опорочить, сколько убить. Однако боюсь я не смерти и не очередной порции боли. Страшно потерять уважение мамы. Один солдат отталкивает другого к двери, чтобы тот покараулил. Сам подходит ко мне, по-идиотски воркуя грубым, сипловатым голосом. Тяжелый дух пота и алкоголя резко бьет в нос, как запах гнили. Главное – не подпускать солдата к себе. Но кинуть в него нечем. Я не могу даже сесть. Пытаюсь крикнуть, а издаю лишь жалкий писк. Второй солдат, тот, который у двери, смеется, но затем замолкает. Потом произносит что-то резкое. Я не знаю английского, но понимаю: говорит о ребенке. Первый солдат нависает над кроваткой. Одной рукой он нащупывает ремень. Сейчас он займется мною. И раздавит. Он достает пистолет и бешено размахивает им, словно факелом. Я жду, когда его руки начнут хватать меня. Но вместо этого он вдруг отступает. Направляется к своему другу. Дверь захлопывается. Снова темнота. Я одна.
Заснуть уже не могу. Уверена, тот солдат вернется. Но где Магда? Неужели какой-то другой солдат взял ее? Сестра истощена, но тело ее в лучшем состоянии, чем мое, и сохранило намек на женские формы. Чтобы заглушить страх, я пытаюсь выстроить в памяти все, что знаю о мужчинах, и собрать пазл из известных мне характеров. Эрик – чуткий и жизнелюбивый. Мой отец – разочарованный в себе и своей судьбе; иногда он подавлен, иногда пытается нащупать опору в жизни, находя утешение в маленьких радостях. Доктор Менгеле – порочный и контролирующий все вокруг себя. Солдат вермахта, поймавший меня, когда я украла морковку, – сторонник карательных мер, оказавшийся милосердным и добрым. Американский солдат, вытащивший меня из кучи тел в Гунскирхене, – решительный и отважный. И нынешний американский солдат – новый для меня вид, незнакомый мне оттенок на палитре жизни. Агрессивный, но опустошенный; солдат-освободитель и солдат-насильник в одном лице. Пустое место, большое и темное, будто его тело утратило свое человеческое начало. Я никогда не узнаю, где была тогда Магда. Даже теперь она не вспоминает ту ночь. Но лично я извлеку из той страшной ночи нечто весьма важное, что, надеюсь, никогда не забуду. Человек, который намеревался изнасиловать меня, который мог бы вернуться и завершить начатое, тот человек тоже испытал омерзение – от самого себя. Возможно, он, как и я, провел всю оставшуюся жизнь в попытках избавиться от своих воспоминаний, вытеснить их на обочину сознания. Думаю, в ту ночь он так потерялся во тьме, что сам едва не стал тьмою. Но этого не случилось. Он сделал выбор и все-таки не превратился в пустое место.
Утром солдат возвращается. Мне понятно, что это он, по запаху перегара и по его физиономии – несмотря на полутьму, я волей-неволей из-за страха запомнила ее. Крепко обхватив руками колени, я начинаю то скулить, то завывать. Из меня вырывается что-то нечеловеческое. Но остановиться уже не могу. Я издаю монотонно-заунывный звук, несколько напоминающий гудение насекомого. Солдат опускается на колени у моей детской кроватки. Он плачет, повторяя всего два слова: forgive me, forgive me. Я еще не разбираю их значения – «прости меня», – однако запоминаю их звучание. Он протягивает мне полотняный мешок, который слишком тяжел для меня. Тогда солдат сам вытряхивает содержимое. На матрас вываливается его армейский паек – маленькие баночки с разноцветными этикетками. Он показывает мне наклейки. Тычет в них пальцем и, словно обезумевший метрдотель, что-то объясняет и объясняет, предлагая выбрать какое-нибудь блюдо. Не понимая ни слова из того, что он говорит, я рассматриваю картинки. Солдат открывает одну банку и кормит меня с ложки. Это свинина с чем-то сладким. С изюмом. Если отец не делился бы со мной принесенной втихаря ветчиной, скорее всего, я не знала бы ее вкуса – правда, мне кажется, что венгры не стали бы добавлять к свинине ничего сладкого. Открываю рот и получаю очередную порцию. Конечно, он прощен. Я умираю от голода, а он принес еду и кормит меня.
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87