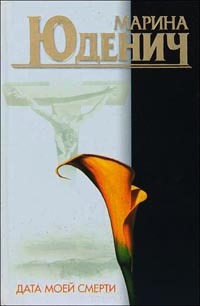Нас было несколько на этом пути, все мы пытались вдохнуть в свою древнюю профессию дух современности, но набожные каллиграфы боялись привлечь гнев Всевышнего. Лишь очень немногие посмели экспериментировать, не опасаясь наказания свыше.
Я ничего не боялась и продолжала работать, словно бросая кому-то вызов: увлеклась аппликацией, использовала даже газетную бумагу. Я превратила в молитву предметы повседневного быта.
Преодолевая запреты, я постепенно утрачивала веру. Теперь я не страшусь ни Бога, ни смерти.
* * *
Годы идут. Инструменты уже не слушаются моих рук, считают, что я слишком стара для них, что они для меня – незаслуженный дар. Я рисую угольным карандашом, большой палец соскальзывает, карандаш превращается в пыль…
Все распадается от одного моего прикосновения. Это предупреждение? Как мне его трактовать? Хатем приносит мне кофе, я пью и возвращаю чашку, сестра сосредоточенно смотрит на дно и вдруг вскрикивает: в кофейной гуще ей привиделся надгробный памятник. Я вырвала чашку из ее рук, вымыла и побежала на пристань: по ту сторону Босфора меня ожидали ученики. Едва я ступила на паром, из окна нашей квартиры послышался крик. Хатем призывала меня вернуться. Дверь была распахнута. Сестра, рыдая, говорила с кем-то по телефону. Она посмотрела на меня, и взгляд ее был исполнен боли.
«Риккат, сегодня утром умер Hyp. У него случился инфаркт, прямо на лекции».
Я, отказываясь верить, выхватила у нее трубку. Незнакомый голос на другом конце света повторил ту же фразу. «Что же станет с его шестилетней дочерью?» – повторяла я в отчаянии. В эту минуту я даже не вспомнила о его жене, а ведь она, такая молодая, осталась вдовой.
Я бы хотела быть похороненной заживо в своей мастерской. Ни в тот день, ни в последующие дни я не ездила к ученикам. Сидя на стуле, повернувшись спиной к свету, я обеими руками затыкала уши, чтобы не слышать криков Хатем, которая умоляла меня открыть ей дверь.
За окном была осень, иголочки лиственницы с тихим шорохом падали вниз, и исписанные моим почерком листы должны были последовать за ними, разложиться, исчезнуть в земле.
К чему мне теперь работа? Она не вернет моего сына. Зачем мне Бог, который лишь использует меня для записи своего дыхания? Пальцы горят, едва коснувшись инструментов. Они высохли, умерли вместе с Нуром, их тоже можно закопать.
Устав кричать, сестра взламывает дверь. Тяжело дыша, она берет мою руку, просовывает между пальцами калам и ведет им по бумаге.
«Пиши, Риккат, – приказывает она. – Только в этом твое спасение».
* * *
В первый раз рука начала дрожать на глазах у моих учеников, правда, они ничего не заметили. Все будто утекало из-под пальцев: лист выскальзывал из рук, калам дрожал. Только мой голос по-прежнему звучал уверенно. Гордая тем, что из двадцати человек, присутствовавших в аудитории, именно ей выпало писать под мою диктовку, Муна скрупулезно выполняла мои указания. Я была неспособна укоротить завитки, удлинить вертикальные линии, исправить пропорции и страдала оттого, что акценты расставлены неправильно, но ничего не могла изменить. Рука вцепилась в стол и не отпускала его. Только бы не видеть их ошибок, которые я не в силах исправить. Вид усеченных, опухших букв был мне невыносим. Я убрала дощечку и листы бумаги, ставшие немыми свидетелями моего нездоровья, попыталась помассировать руки, но это не помогло.
Тогда я решила показать ученикам, как вытачивать калам. Прикоснувшись к тростнику, руки дрожать перестали: одна из них гладила стебель, другая сжимала нож. Бока стебля были выпуклыми, я крепко подпирала его большим пальцем, но нож выскользнул, и его острие поранило указательный. Стебель пропитался кровью. Виновница беды, правая рука, снова предательски дрогнула.
Муна сделала мне перевязку, вымыла тростник в чистой воде. Пропитанный кровью калам выглядел странно.
Двадцать учеников пытливо глядели на меня, следя за каждым движением. На кончике ножа осталась блестеть капля крови, со временем она высохла и почернела.
После занятий я вышла из аудитории, крепко вцепившись рукой в ремешок сумки.
Муна потушила свет и закрыла дверь.
Позднее, стоя на пароме, я вглядывалась в очертания Бейлербея. По мере приближения родная деревня выглядела не четче, а напротив, более расплывчато. Меня лихорадило. Мне не терпелось вернуться домой и забыться сном.
В ту ночь мне привиделись бесчисленные арабески. Нечитаемые надписи увлекали меня в лабиринт, где смешивались слова и голоса. Мое тело, ставшее вдруг почти невесомым, сквозь дыру устремилось в открытое пространство. Небо там оказалось гладким, как пергамент, море – мутным, как чернила, деревья были выточены наподобие каламов, и все это служило инструментами для Всевышнего. Я проснулась оттого, что правая рука вновь задрожала. Я глядела на нее с тем же ужасом, как когда-то давно на маленького Недима, бившегося в ознобе. Общеизвестно, что, если у каллиграфа трясутся руки, это начало скорого конца.
Белизна знакомых стен меня успокоила. Сквозь запотевшее оконное стекло пробивались первые солнечные лучи, одни проходили насквозь, другие увязали на полпути. В последнее время мое зрение сильно ухудшилось, и все-таки я без труда сумела разобрать эти строки:
Он дает им отсрочку,
Не торопит событья;
Но должны они помнить,
Что настанет их час,
Ибо Бог неотступно за ними следит![57]
Строчки пропадали по мере того, как я читала их. Я дула на окно, потом старалась не дышать, но это не помогало. Откуда они возникли, или все это лишь плод моего воображения? Оконное стекло, подобно зеркалу, отразило страницу из Селимова Корана, открытого на этой строфе. Наконец-то Бог и Селим обрели друг друга, а может, они и с самого начала были одним и тем же лицом.
* * *
Я умерла от удушья, несмотря на все старания Недима, переделавшего дедушкину трубку в кислородную, чтобы избавить меня от необходимости лечь в больницу.
Каллиграфы умирают, когда оказываются не в силах служить Богу.
Чернильница Селима, чудесным образом найденная в день моей смерти, поблескивала сквозь гладь босфорской воды. Мой сын выловил ее, и через несколько часов после моих похорон она вновь обрела свое место на моем столе.
Коллекцию моих работ и мои инструменты я завещала Министерству культуры Турецкой республики.
Моя памятная доска красиво оформлена, эпитафию написал Мухсин, и в ней он восхваляет мою веру и мой талант. Он только забыл упомянуть о твердости и стойкости моей руки. Когда ей случается проснуться, она невольно укоряет его за это упущение. Мои ласковые слова ее не утешают, и, засыпая, она бормочет несвязные слова.
Перо выпадает из моих рук. Я мертвая и потому не стану описывать небытие, пустоту и тишину.