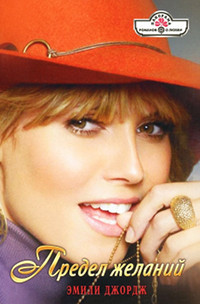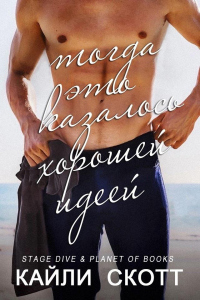ни было. Я совершенно не собираюсь лишать тебя каких-либо основных прав и свобод. Я абсолютно уверен, что у тебя есть выбор, свободный выбор во всех сферах твоей жизни. Я не оспариваю это и не лишаю тебя права на это. У тебя есть выбор жить так, как ты хочешь. Отношения Дом/саб делают тебя счастливой, значит выбирай их, или заканчивай, если они больше не делают тебя счастливой. Ты уже сделала это раньше, и можешь сделать это снова.
Роберт делает паузу, и я киваю.
— Ты можешь надрать задницу любому, кто тебя бесит. Мою тоже, если когда-нибудь я действительно выбешу тебя. Но я хочу быть единственным, кто шлепает по заднице тебя. С твоего согласия. Потому что ты хочешь, чтобы я это сделал.
— Но это…
— Аллегра. Это то, чего ты хочешь. Это то, что делает тебя счастливой. И если твоя мать узнает в какой-то момент об этом, ты скажешь ей, что идешь по этому пути добровольно. Потому что это делает тебя счастливой. Она может принять это или нет — это не твоя проблема. Кроме того, я не собираюсь делать каминг-аут на публике. Или заставлять тебя это делать.
— Сильная женщина, которая подчиняется мужчине… ты не видишь в этом никакого противоречия?
— Нет. Существуют финансовые чиновники до мозга костей — такие, как мой отец — которые десять месяцев в году изводят мир до смерти, читая лекции о налоге на прирост капитала, а затем надевают забавную шляпу и картонный нос, произносят более или менее забавные речи и кричат «Хелау», пока не охрипнут. Мой отец приходит домой с карнавальных мероприятий, открывает пиво, чтобы увлажнить сорванную глотку, и читает почти бесконечную мрачную лекцию о государственной финансовой политике, даже не сняв картонный нос или шляпу.
Я вынуждена рассмеяться, представляя это зрелище, и мне становится ясно, что хочет сказать Роберт. Можно быть и тем, и другим. Одновременно. Он позволит мне, примет меня такой, будет сопровождать меня на этом пути.
— М-м-м, я понимаю, что ты имеешь в виду.
— В баре ты сказала, что противоречить мне чувствуется неправильно, а послушание дает ощущение правильности и свободы. Это правда, Аллегра? — бормочет он, сжимая меня крепче.
— Да, это верно.
— Это действительно так? Подумай об этом.
— Мне не нужно думать. Я знаю, что я так чувствую.
— Разве тогда не все понятно? Твоя жизнь, твои чувства, твой путь?
— Ты замечательный, ты знаешь это? — тихо спрашиваю я и целую его, бесконечно довольная, что мне это позволено. То, что его путь и мой путь близки друг к другу, почти совпадают — и что мы идем в одном направлении — все это в данный момент делает меня очень счастливой.
— Боже, да, — усмехается он, — я знаю. И, несмотря на этот глубокомысленный разговор, я невероятно возбужден.
Я смеюсь и снова целую его. Роберт поднимает руку, достигая моей шеи, и поцелуй становится требовательным и интенсивным. Переключатель, который все время болтался туда-сюда, громко щелкает. Добро пожаловать в «зону», детка.
— Раздевайся, Аллегра. Раздевайся и иди в спальню.
* * *
Не задумываясь, я делаю то, что он говорит, наслаждаясь одобрительным взглядом. Когда выхожу из гостиной, он остается сидеть. Я иду в спальню и становлюсь возле кровати, скрестив руки за спиной, как учили меня много лет назад, опускаю глаза в пол и жду. «Терпение, — слышу голос Марека в моем ухе, — терпение и покой являются величайшими добродетелями. Ты слишком нетерпелива, слишком беспокойна, ты не можешь ждать, Аллегра. Ты должна работать над этим, если хочешь, чтобы я был доволен тобой». Марек любил оставлять меня в спальне со связанными руками за спиной и книгой на голове. Он уходил, и когда возвращался, чаще всего книга валялась на полу. Наказания были суровыми, всегда на пределе того, что я могла вынести, в области, которая не приносила мне никакого удовольствия. Я никогда не ценила такого рода дисциплинарные процедуры. Мне было скучно, а само по себе стояние без движения уже было наказанием — и часто я действительно испытывала страх от телесных наказаний. Но также я многому научилась, конечно, это было частью обучения. Программы обучения Марека. Он всегда говорил об обучении, в рамках которого я целыми днями ползала перед Мареком на четвереньках по полу, целовала его ноги или лизала его ботинки. Снова и снова он исправлял мою выправку. Марек — мой Господин, как я должна была его называть — был чертовым перфекционистом. Но я была молода, податлива и способна учиться, и в конце концов он был удовлетворен изяществом, грацией и элегантностью моего хода на четвереньках, а также позой и выносливостью, с которой я стояла возле кровати и ждала его. Тогда стало проще. Приятнее. Наказания уже не казались такими уж жестокими.
Но теперь, спустя шесть лет после окончания наших трехлетних отношений, я знала, что хотя многому и научилась, но видение мира Марека было не тем, чего хотела я. Действительно на своем месте, действительно комфортно с Мареком я себя чувствовала редко. Тем не менее, я не часто думала о нем плохо. То, что он вбил в меня, сидело глубоко внутри, и я едва могла заставить себя думать о негативных моментах в наших отношениях. Тем более я не могла говорить о нем плохо, я приукрашивала правду, когда рассказывала о времени с Мареком. Марек, как я поняла некоторое время назад, успешно промыл мне мозги. Аллегра не говорит плохо о Боге в мире Аллегры. Она даже не думает о нем плохо. Она благодарит его за бесконечную милость, за доброту, которую он выказывает одним тем фактом, что превращает этот нетерпеливый кусок плоти, предназначенный лишь для удовлетворения хозяина, в приемлемую, может быть, даже хорошую рабыню. Когда уходила, я знала, что я не рабыня. И никогда не смогла бы быть ею. Воспитание моей матери не позволило этого — и Мареку ни разу не удалось сломить его, к его величайшему раздражению. Отношения 24/7, включая полную передачу власти, которую Марек хотел за пределами спальни, были причиной, по которой я ушла. И была рада, избавившись от поясов верности, ошейников, поводков, кнутов и таких для меня мерзко-противных бандажных сессий. Я не знала точно, чего хотела. Но то, что предлагал Марек, я больше не желала. Мне было абсолютно ясно: я сабмиссивна с небольшими мазохистскими наклонностями, но я не представляла, как испытать это без марековского догматизма. Все отношения после Марека оставались расплывчатыми, ни к чему не обязывающими, пока природная катастрофа в лице