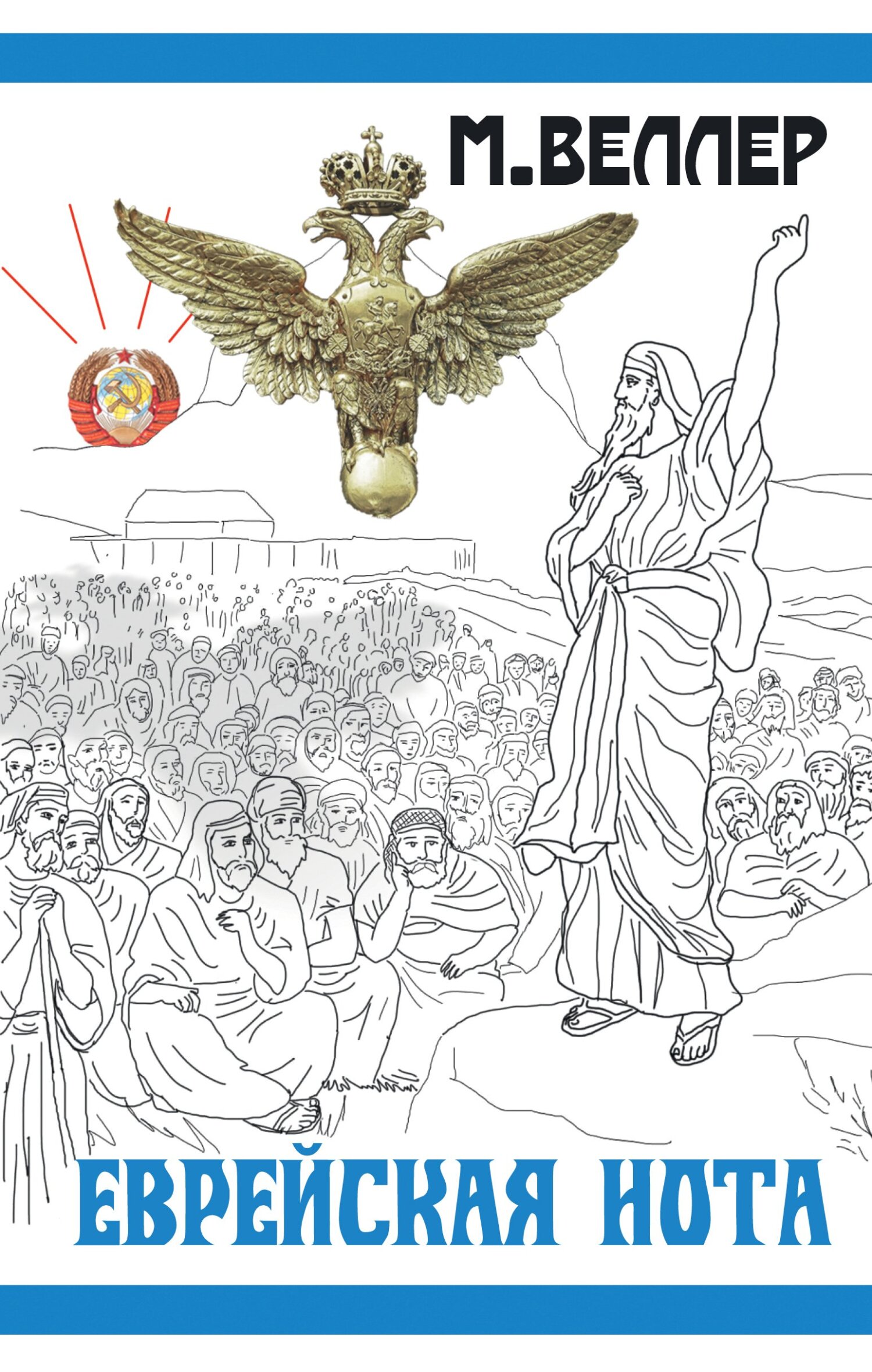но чувствовал, как какое-то существо снизу держит мой язык.
– А сейчас?
– Это существо исчезло.
– А твои ноги?
– Я чувствовал, что они онемели…
– А сейчас?
– Онемение прошло, теперь я могу даже бегать.
– Не стоит, пока отложим бег. Ты действительно понимал все, что слышал?
– Конечно. Иначе как бы я мог говорить?
– Значит, ты понимал наши с матерью разговоры?
– Понимал.
– Ты знаешь, где именно сейчас она находится?
– Знаю.
– И любишь ее?
– Люблю.
– И хочешь, чтобы она вернулась к тебе?
– Хочу.
– И веришь в то, что она вернется.
– Верю.
– А меня? Любишь ли ты меня, Хишам?
– Очень! Очень!
– Если я оставлю тебя, как оставила тебя мать, ты перенесешь это?
– Папа! Зачем ты портишь такие замечательные минуты?!
Ребенок заплакал, и каждая его слеза хватала меня за горло, словно раскаленные клещи. Я не задал бы последнего вопроса, не стучи в моих висках тот сухой, страшный, уверенный в своей власти голос. «Встань и простись с Последним днем!» Обидно осознавать, что день, в который я отыскал себя и своего единственного, любимейшего сына, станет моим последним.
Раньше я жил так, как живет растение или насекомое, животное или самый что ни на есть обычный человек, но вот Хишам исцелился, и я по-настоящему ожил. Сегодня я увидел свет окна, которое неожиданно для меня настежь распахнулось, обнажив прекрасную, полнокровную, совершенную жизнь. Неужели это окно открылось лишь для того, чтобы тут же с треском захлопнуться? Неужто первый эскиз моей жизни станет последним?
Как бы то ни было, мне больно. Больно потому, что я вытолкнул сына в наэлектризованный, мрачный мир реальности. Я попытался вернуть Хишаму былое расположение духа, но тщетно; не знаю, что произошло бы, если ʼУмм Зайдан – да благословит Господь ее чистое сердце! – не выбежала бы из дома и не покрыла Хишама поцелуями.
– Душа моя! Душа моя! – верещала старушка, словно маленький ребенок. – Хватит ему ходить. Его ноги устали! Дорогие, дорогие ноги! Хватит, хватит! Доктор, введи его домой, пускай он отдыхает. Заходи, заходи… Доктор, я задам тебе один вопрос, но чуть попозже…
Меня задело произнесенное ʼУмм Зайдан слово «доктор», стрелой застрявшее в моем сердце, в моем мозгу. «Доктор»! Какой я «доктор»? Доктор философии?.. Вряд ли ʼУмм Зайдан или кто-либо другой поймет, что сделали со мной восемь несчастных часов. Это не восемь часов – это сущие восемь эпох, научившие меня смеяться над всякой книжной философией. Когда-то я изучал ее, я учил ей других, считая ее саму суммой теорий, которые необходимо зазубрить и уметь ловко, исчерпывающе объяснить студентам. Я зазубрил их, – и потому получил докторскую степень; я хорошо их объяснял, – и потому получил кафедру и неплохое жалованье. Я торговал философией так, как спекулянт торгует гнилым товаром, но ни одно философское учение не освещало моего пути, моих дней или ночей. Философия не стала моим щитом, отражающим удары судьбы, или крепкой лодкой, несущей меня по волнам своего бытия.
И вот мой товар рассыпался в пыль, едва услышав грозное: «Встань и простись с Последним днем!» Он пришел в негодность, едва завидев призрак смерти, грозящей этой фразой, образ жены, ушедшей к другому мужчине, тень розы, вернувшей речь и движение Хишаму, подлость Двоеуста и веру ʼУмм Зайдан, повторявшей: «Хишам заговорит… Хишам пойдет».
Да. Все философские концепции пали под натиском последних восьми часов, обесценивших мою степень доктора философии. Эта степень смеется надо мной – ее невольником, когда-то гордившимся своим позорным ярмом.
В чем вообще состоит ценность человеческих усилий, не направленных на укрепление обитателей Земли перед лицом полезных или вредных происшествий, радостных или грустных неожиданностей?
В чем состоит ценность произведений искусства, не украшающих жизни их творцов? Почему последние не очищаются священным творчеством от лицемерия, тщеславия, подлости, хитрости, гнева, любви к несправедливости или незаслуженной славе?
В чем состоит ценность литературы, что не воспитывает своих авторов и читателей?
В чем состоит ценность превозносимой поэмы, которая, на поверку, выходит бездарной, кривой, косой и глухой жертвой алчности? Кому нужен стих, который не в силах выстоять и перед легким ветерком жизни, не то что перед бурей справедливой критики?
В чем заключен смысл работы писателя, который, живописуя повседневную жизнь людей, не извлекает для себя уроков, не стремится стать пастырем своих читателей?
Нет никакого смысла ни в философии, ни в искусстве, ни в литературе, ни в религии, которые философ, художник, литератор и верующий не превращают в силу, обеспечивающую иммунитет радости человеческой жизни от заблуждений, иллюзий, лжи, страхов и других перверсий…
– Да, ʼУмм Зайдан?
– Ты, наверное, уже забыл, что я сказала тебе в саду.
– А что ты сказала?
– Я сказала: «Я задам тебе вопрос».
– Ах, да. Вспомнил. О чем ты хочешь спросить?
– Не мог бы ты измерить рост моего любимого Хишама? При этом он должен стоять прямо, с поднятой рукой.
– Зачем, ʼУмм Зайдан?
Старуха смутилась, потерла руки и обнажила два желтых клыка на нижней челюсти.
– Хе-хе… Не смейся надо мной, сынок! Вы, философы, не верите, а мы, старухи, верим…
– Во что?
– Давно, давным-давно, я пообещала принести жертву.
– Кому?
– Госпоже, мир ей!
– А что за жертва должна быть?
– Две свечи, по длине своей равные росту Хишама, стоящего с поднятой рукой. Она ответила на мои молитвы, теперь пришло время и мне сдержать свое обещание.
– Вне всякого сомнения. Чего ты ждешь от меня, ʼУмм Зайдан?
– Двух свечей.
– Бери цену четырех свечей, двадцати, ста… Все тебе отдам, ʼУмм Зайдан.
– Нет-нет, не надо. Я копила денежки, пока работала здесь, я заплачу из своих сбережений. Я хочу еще, чтобы Хишам сам зажег обе свечи. Я пообещала Госпоже…
– А что, если ты не найдешь таких длинных свечей?
– Тогда я найду свечника, который отольет мне их.
– Да будет так, ʼУмм Зайдан.
Я мог бы поднять ее на смех и спросить: в чем причина ее уверенности в том, что именно Госпожа вернула Хишаму речь и силу ног? Почему Она не сделала это много лет назад и без обещанных двух огромных свечей? Если Она может исцелить каждого, так почему же не делает этого, освобождая мир от медицины, медиков, медсестер и госпиталей? Или же Она ждет от больных унизительных даров?
Я мог сказать это – и даже больше этого – ʼУмм Зайдан в лицо, но, услышав ее слова, почувствовав горячую силу ее веры, словно оказался игрушкой в руках исполина… Ее тихая, чистая, немного безумная богобоязненность превратила в прах все философии, изнутри распиравшие мою голову. Это она – доктор философии, а не я. Ее