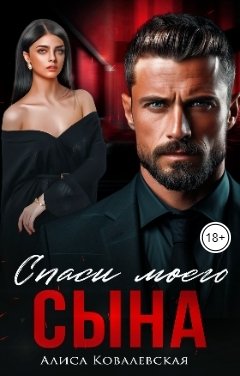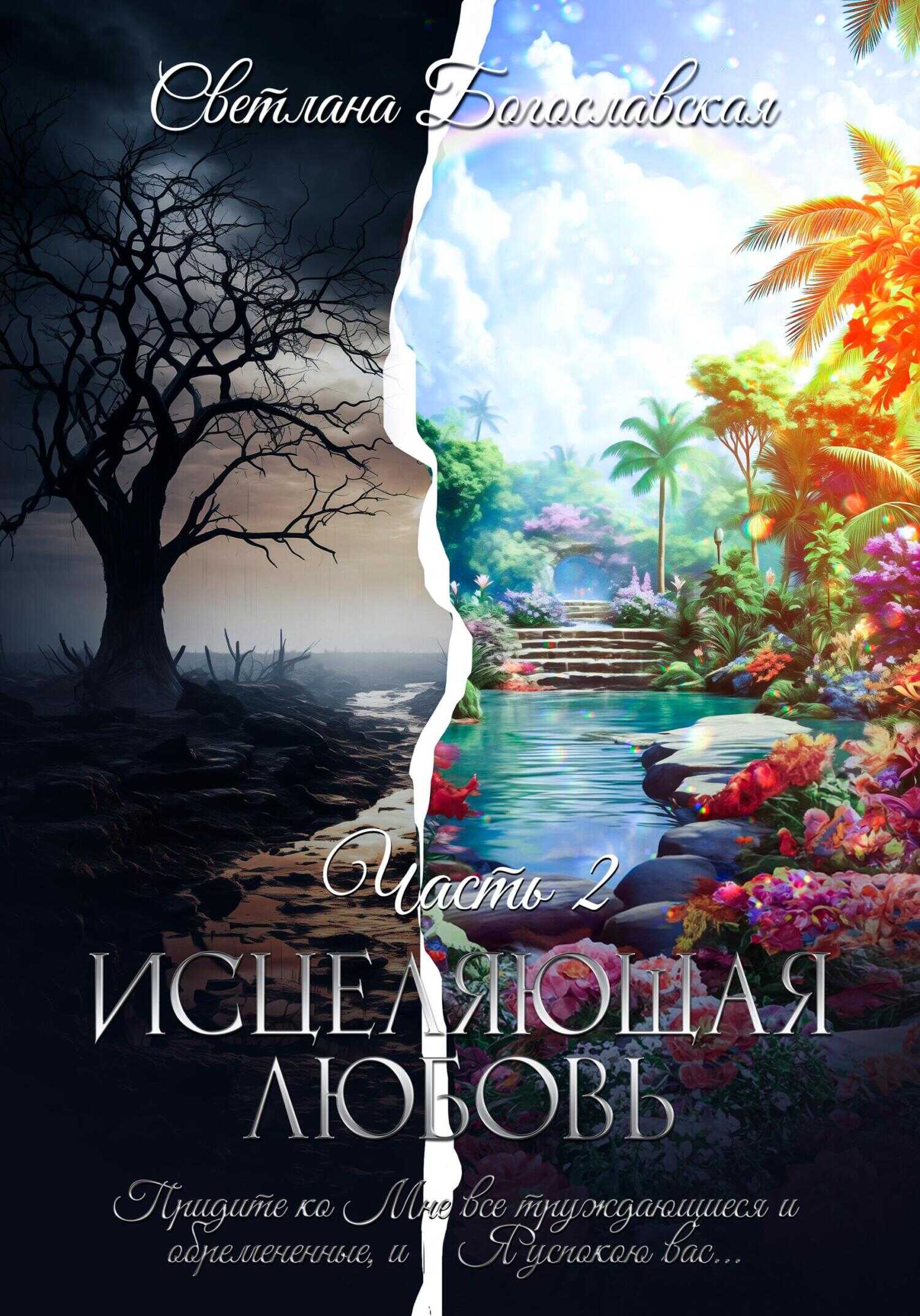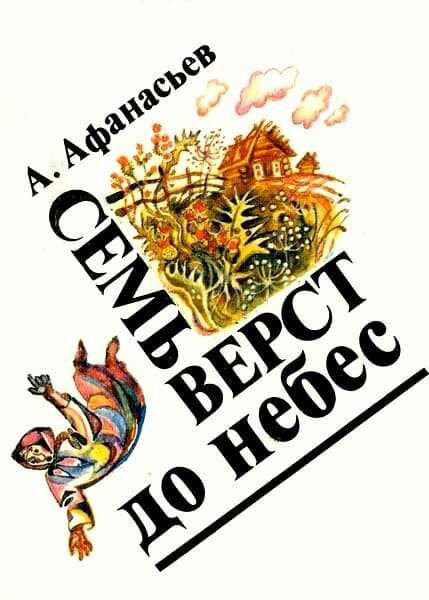то ни стало попасть своей беседой в тон настроения директора и потом опять вернуться к разговору о сыне.
— Возьму для примера себя. Я даже коммунист, я работаю, но я интеллигент. А курс на пролетаризацию — это курс на рабочих, батраков, крестьян, и получается, что мы — интеллигенция, не имеем возможности учить своих детей. Выходит, что наши дети тоже фактически не имеют права на образование...
— Да, да...
— Получается как-то немного странно. Пролетаризация,— а нам, интеллигенции, негде детей учить, или, если хочешь, бери то, что остается, самые худшие места. Но выбирай, где ты хочешь, а где место тебе останется. А разве мы, вот хотя бы вы, Артем Семенович, не такие пролетарии?.. Разве в том дело, что один физическим трудом занимается, а другой умственным?
— Это последнее имеет все-такы значение, с этим нельзя не считаться. Мы, интеллигенция, имели большие возможности и прежде учиться, поэтому сейчас не страшно, если немного и потеснимся. Люди физического труда получили право на школу, науку только с революцией... Это надо учитывать... Но с вами иное дело, вы же коммунист...
— И все равно, как видите. Коммунист, но — не пролетарий, и потому такое же положение, как и обычного беспартийного интеллигента. Коммунист — и иду к вам, Артем Семенович, к беспартийному интеллигенту, просить за сына... Хи-хи-хи...
Директору надоела беседа со Смачным. Он поднялся со стула и начал ходить по кабинету.
— Да. Есть много ненормальностей, недоразумений... А дело вашего сына обязательно в ближайшие дни рассмотрим, я внесу на комиссию, и постараемся принять...
Кто-то шарил за дверью ботинком и кашлял. Директор с еще большей нервозностью заходил по кабинету.
— Есть ненормальностей еще много...
Смачный подошел к нему у двери, наклонился к лицу.
— Хочу вам рассказать один факт из деятельности нашей милиции. Типичный факт. Как милицейский начальник взял у крестьянина жену силой...
Смачный рассказывал о факте, который ему сообщил недавно его коллега по службе. Директор слушал его и часто, нервно стучал носком ботинка по полу. Закончив рассказ, Смачный захихикал.
— Хи-хи-хи!.. Типичный факт... Это может быть только у нас, в советской стране... До свидания... Благодарю...
* * *
Секретарь ячейки получил письмо. Он два раза прочитал его и ничего не мог понять.
«Что за черт? Прямо наваждение».
Позвал еще одного товарища из бюро ячейки и показал ему письмо. В письме ровным канцелярским почерком было написано:
«Дорогие товарища!
Как мы все должны, согласно призывам коммунистической партии, заботиться о пролетарской, коммунистической чистоте рядов нашей любимой партии и наших советских, пролетарских ВУЗов, что сила наша и победа в тех кадрах спецов, которых мы сами готовим сегодня. А чтобы не наготовить каких-нибудь врагов на свою голову, мы должны оглянуться, кого же готовим? Каждый честный гражданин Советского государства должен заботиться об этом, и я выполняю лишь свой прямой долг и сообщаю, что в Вашем техникуме учится один студент Шавец Алесь. Кто ж такой этот Шавец, который уже три года жрет советские деньги, деньги трудящихся? Этот Шавец Алесь Никитович является сыном бывшего служащего полиции. И я, как гражданин Советского государства, считаю, что его надо из техникума и из партия выгнать и взыскать с него деньги, которые государство истратило за три года его обучения. Если бы не такие пролазы, как Шавец Алесь, на их месте могли бы учиться еще многие рабочие и крестьяне».
Под письмом стояла буква «К», от которой вниз был сделан хвостиком какой-то вензель. После этого автор объяснил, что он не подписывает письма, потому что боится, што Шавец будет мстить ему.
Секретарь держал письмо перед носом товарища и спрашивал:
— Ты понимаешь?..
— Я не верю этому. Не может быть. Алесь очень добросовестный, искренний. Я не верю.
— И я не хотел бы верить, но черт его разберет, братец. Добросовестность, искренность — это все такие понятия... Я вот сейчас думаю, почему он так активно выступал за исключение Миронова, против приема в комсомол Кисляка? Не потому ли, чтоб самому скрыться, отвести от себя подозрения?..
— Брось. Это глупость. Я эти его выступления не так понимаю. Он искренне выступал.
— Но все же я думаю послать запрос...
В комнату вошел Алесь.
— Везет нам, хлопцы,— крикнул он с порога,— ей-богу везет. Гляньте только! Я недаром говорил на собрании о классовой бдительности, посмотрите!..
Алесь подал секретарю письмо — клочок бумаги в клетку, исписанный кривым, неразборчивым почерком.
— И на все сто,— говорил дальше Алесь,— верю этому письму, нутром верю.
Он начал читать письмо. В нем было написано следующее:
«Я хоть и знаю, что Ключинский будет, может, меня и преследовать, но сообщаю, что Стефан Корч, который учится, не есть Корч, а Ключинский. А было это так, что он обманул своего батрака и на его документы поехал учиться. Чтобы вы не сомневались, я пишу свой адрес и фамилию, и имя. О том, моя ли правда, спросите у нас кого хотите».
Дальше шла подпись и адрес.
Член бюро не сдержался и захохотал. Алесь глянул на него и не понял.
— Ты смеешься, удивлен? И я, брат, удивлен, как это я три года с ним прожил и ничего не знал? Я этому заявлению верю и пришел вас спросить, как поступить профкому. Я намерен послать запрос в райисполком и в сельсовет и почему-то твердо уверен, что ответы подтвердят это заявление.
— Надо послать запрос.
— Да, надо...
Алесь взял письмо и вышел. У ворот техникума его догнал член бюро ячейки.
— Давай пройдемся, погуляем.
Шли.
На улице предвесенние дни. На тропинках свежевыпавший чистый снег. Ветви деревьев усыпаны снегом, стали мохнатые. На деревьях шумно кричат галки. Алесю хочется говорить почему-то об этом, об образах уходящей зимы.
— Я люблю зиму,— говорит он,— в ней много прекрасного. Всегда, когда я иду в метель или во время оттепели, на меня находит какая-то радостная тоска. Особенно вот сейчас. Радуюсь весне, и немного жаль зимы...
— Поэзия. А я о жизни думаю.
— Надо думать о жизни, особенно в твоем возрасте.
— Я не об этом. Я думаю, сколько вот не наших людей пристроилось к нашей жизни и живут вовсю. И мы их иногда согреваем возле себя, делимся с ними плодами революции...
— Правильно,— подтвердил Алесь,— я об этом не раз говорил. Я всегда буду говорить, что мы слишком жалеем всех и поэтому не умеем