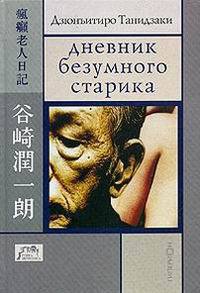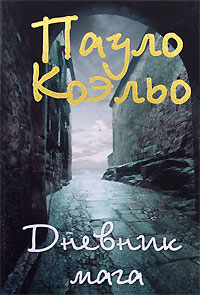с гранатами в Шабаце, и демонстрирует какую-то статистику, которой желает доказать, что везде женщины склонны к проституции. Дым вьется, смех раздается. Святые жены, матери и сестры, по госпиталям и паркам, в его речах и смехе. Толпятся и отдаются по трактирам, на полу, на стульях, пьяные, в экстазе, а тысячи окровавленных мужчин все время попадают на его окровавленный стол и покидают его без ноги, без головы, без ушей, без глаз, покорно, как скот. Поезд летит, летит. Потрясенные отцы кричат на доктора, а он, по-прежнему смеясь, приводит цифры, статистику, цифры ужасные, страшные.
Один из всех сидит бледный и изнуренный, изможденный, и не вмешивается в разговор. Он авиатор, пахнет одеколоном, посвистывает, спокойно достает пачку писем и читает, читает; на нем шелковое белье, на руке браслет с золотой гривной, когда приходится вмешиваться в спор, он усмехается презрительно и говорит только о смерти.
«Меня не интересуют люди, я исполняю свой долг, обо мне никогда не скажут ничего, кроме как — джентльмен». Говорит, какие убогие эти летательные аппараты, как англичане издеваются и смеются над ними в воздухе. Он знает, что скоро погибнет, это все они знают, и обо всем говорит с презрением. Он рассказывает о каком-то озере, за лесом, где спрятаны их ангары, в мирные дни там ловят рыбу и играют в бридж; об одной из принцесс Меттерних, у которой там брат, и он им наносит визиты. Она не бог весть, какая красавица, но в ее теле есть тот порочный шарм, который изыскан и слаще всего на свете. Они смеются и чокаются; он пьет и угощает шампанским. Был у отца, чтобы проститься. Отец его — учитель в горах. Отвез ему тысячу дорогих сигар. «Ему будет легче пережить утрату». Глупо улыбается; а все-таки ему все завидуют, потому что он спокоен и знает, чего хочет.
Поезд несется сквозь леса и пропасти, а на заре они опять трезвеют, потягиваются, молчаливые и угрюмые, и смотрят в запотевшие окна. А там пролетают: карст, кустарник, проволока, кучи и клубки спутанной колючей проволоки, оболочки снарядов и траншеи, полные воды, в долинах, где зияют пепелища и развалины. Вдалеке, слева, скорее даже внизу, в дымке, виднеется какая-то зеленая тряпка — это моя Адриатика.
* * *
Сижу на могиле. Спал хорошо. Когда проснулся, увидел, что спал на девочке. Ее звали Нева Бенусси. Да, она спокойно лежала под землей. Прожила тринадцать лет. Это была моя самая чистая брачная ночь. Вокруг нас стояли темные кипарисы, а я весело улыбался. Вдалеке белели ледяные Альпы, они казались счастьем, бескрайним счастьем земли.
Дети бегают по кладбищу, оборванные и бледные, и кричат: «Un soldo, un soldo, signor sottotenente!».[45] Женщины, с ведрами и коромыслами, покачиваются на изумительных щиколотках, а я едва сдерживаю хохот, глядя на попа с черным обезьяньим лицом, который подошел и смотрит на меня изумленно, потому что я ночевал на кладбище, и зеваю, и умываюсь, кто знает, на чьей могиле.
Он опять мне жалуется, сколько мы испортили фресок в церкви, покрали алтарной утвари, побили окон, а потом угощает ризотто. Мой смех взлетает, достаю из кармана грушу, она розовая, откусываю от нее и смеюсь. Но все это ради зари. Заря всегда затуманивала мне голову. Он мне показывает своего осла, единственное, что ему оставили, и рассказывает про ревматизм, а потом мы идем в его маленькую церковку. Его лиловые, расшитые золотом одежды умиротворяют мои глаза.
Сегодня к нам приезжает командующий. Он нашей крови, но у него еще меньше стыда, чем у нас, последних слуг прекрасной Австрии. Генерал будет стоять с непокрытой головой, барабаны будут стучать, скрипки и орган, с ароматом ладана, будут воспевать невинную мать, вдалеке будут греметь орудия. Когда мы выйдем, над нами будет светить солнце. Я буду беседовать с немцем о Наполеоне и Дебюсси, с чехом — об императрице, о которой ходят странные слухи, потом ко мне подойдет словенец. Он мне будет рассказывать истории, сначала о Грохаре[46] и воеводе Мишиче,[47] тайно и тихо. А тем временем тысячи пройдут парадом. Будем считать, что погибнет сто тысяч. И все мы будем довольны. За обедом будем вспоминать детство, орфеумы, школы. Каждый будет говорить о войне, прославлять, насколько это допустимо, по мнению генерала, свой народ. Мы будем тихонько спорить о немцах, которые все бандиты, и о французах, про которых генерал говорит, что все они педерасты. И так пройдет наш день. Завтра начнется наступление.
Сегодня мы дождемся, когда генерал позвонит в маленький колокольчик и подаст знак, что каждый может закурить свой табак. Мы будем смотреть каждый на свой дым, и так опять завершится еще один день. Но наступит лучший век, он всегда наступает.
* * *
Это случилось ночью. Курьерский поезд столкнулся с нашим и переехал нас. Было много погибших. До утра мы собирали раненых, и все горело. Они сидели на земле и спокойно ели свой хлеб. Многие бродили и искали свои потерянные увольнительные. Я спросил, как они. У меня только синяки на лбу, но мне не отвечали и спокойно жевали свою краюху хлеба. Внизу виднелся Триест, весь в сиянии.
Напрасно я их спрашиваю, когда они последний раз были в отпуске, у себя дома, они молчат и едят свой хлеб. Наши на Томбе,[48] там быстрее погибают. В конце концов, мне никого не жаль, и меньше всего себя. Мы должны исчезнуть, мы не для жизни, мы для смерти. За нами наступит лучший век, он всегда наступает.
Мне жаль глупых, грязных отцов, этих, что не падают ниц перед Саломеей, этих, что не читают романов, этих, не знающих, кто такой Вильсон,[49] этих, что рассказывают о своих коровах хриплыми голосами. Жаль мне этих отцов. Я вижу их в грязных горных ущельях, в вонючих, сырых болотах, как они лежат, желтые и бесплодные, как сама земля. Если бы не стеснялся, я бы их утешал.
О, как они улыбаются, когда я говорю им о семье. Когда-то я хотел стать скульптором и говорить по-гречески, и я думал, что это рай. Сегодня я жажду убивать, убивать. Убийством они отвечают на все. Убийством? Где теперь богини искусства, голенькие женщины с клювом лебедя между стиснутыми бедрами, сонеты золотые и тысяча тысячи обнаженных женщин, куполов и богов, поэтов и негодяев? Везде ли так молчаливы отцы? Ни один еще не вернулся с побывки умиротворенный и смягчившийся. Все возвращаются разъяренными