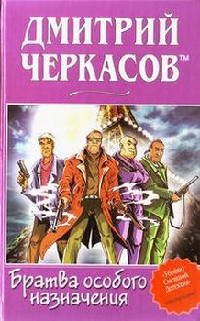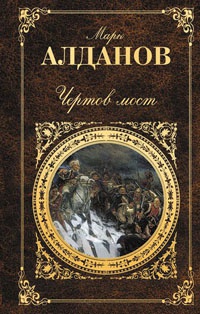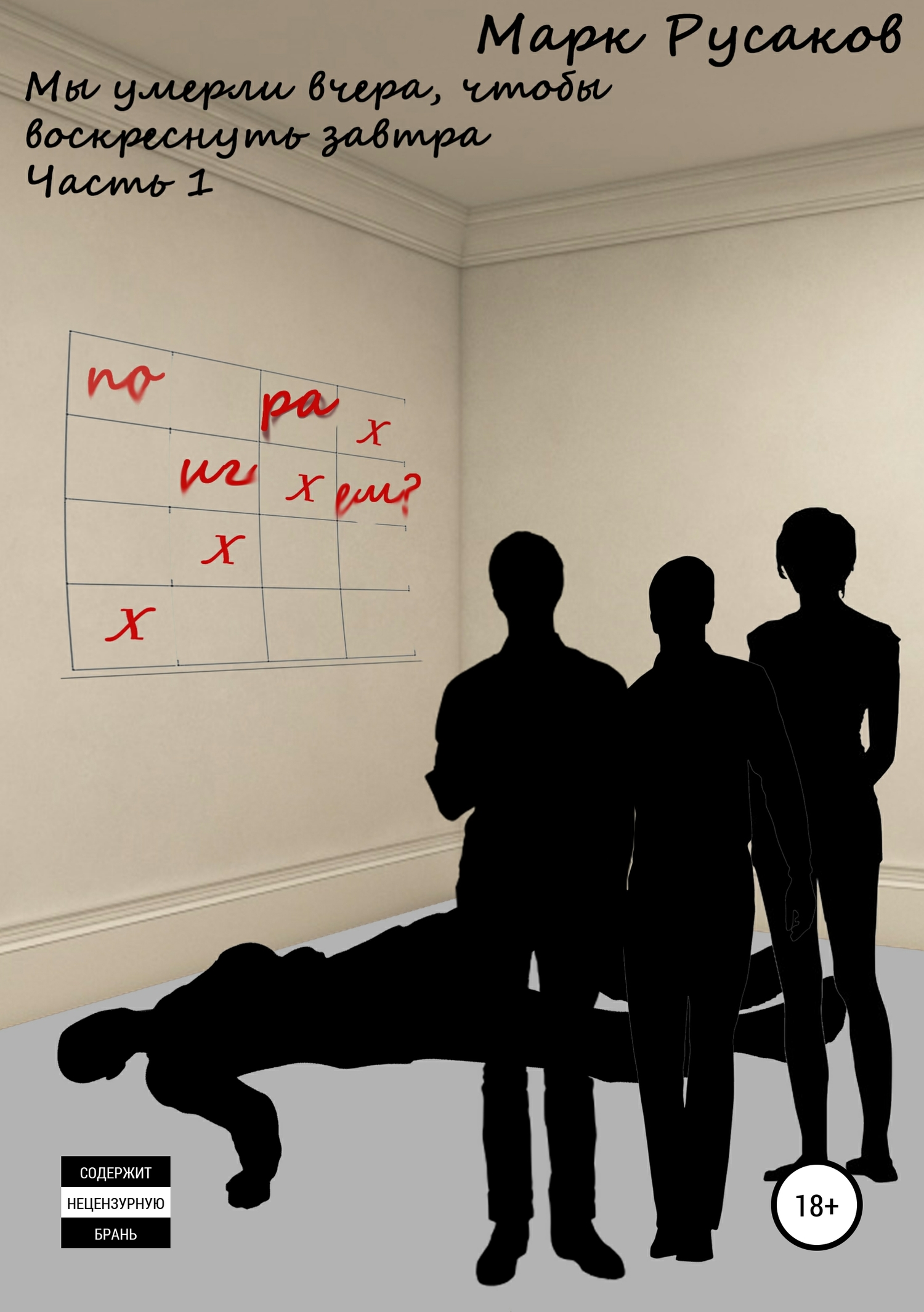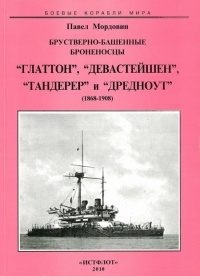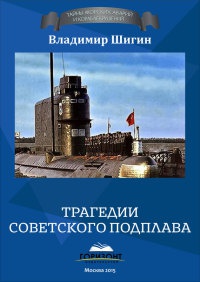к которым принадлежал и он сам. Теперь напуганные штатские люди в Конгрессе давали деньги щедро, и ведомство быстро стало, по его мнению, лучшим в мире, вполне сравнявшись с советским. Отношение полковника к Конгрессу и к public opinion смягчилось: все же они составляли часть American way of life[31], а в American way of life он верил твердо и любил его.
Старик-шофер повёз его лесом в Роканкур. Полковник был в штатском платье, но ещё прежде чем он сказал одно слово, шофер распознал в нем американского офицера. По дороге показал полковнику Le trou d’Enfer, показал заповедную охоту президента республики, сообщал исторические сведения.
— Все это когда-то принадлежало семье Монморанси, самой знатной в мире, — говорил как будто с гордостью шофер, — но её собственно больше нет, нынешние Монморанси не настоящие.
— Да откуда вы все это знаете?
— Как откуда? Из книг. Я здесь прожил всю жизнь. Как же не знать? — ответил старик и весело рассказал анекдот об одном президенте, который охотился, совершенно не умея стрелять. «Только во Франции это возможно, поразительно интеллигентный народ», — подумал полковник, любивший французов, но относившийся к ним так, как он мог бы относиться к древним афинянам. Впрочем, он и всех европейцев считал людьми прошлого.
— А это правда, будто вы очень не любите американцев? — спросил он благодушно. — Вот ведь эти надписи «Ridgway — la peste».
— Tout ça c’est de la blague[32], — сказал шофер, пожимая плечами. — Надо же что-то делать партиям. Почему мне вас не любить? Это уж скорее вы меня не любите. Вот я и теперь должен буду остановиться подальше от входа: меня во двор не впустят, так как вы всех шоферов считаете коммунистами. А я такой же коммунист, как вы, — столь же благодушно сказал старик.
Полковник оставил ему, вместо пятисот франков, шестьсот.
Он направился к невысокому, длинному светлому зданию с зеленым флагом: там, если не решались судьбы мира, то, по крайней мере, подготовлялось их решение. На необыкновенно высоких, тоненьких флагштоках развевались флаги четырнадцати государств, подписавших четыре года тому назад Северо-Атлантический договор. В вестибюле с ним почтительно поздоровался знавший его офицер и повел его по длинным серым коридорам, выстланным чем-то зеленоватым. Им попадались офицеры в мундирах разных армий. Затем он свернул в другой коридор, на котором был непонятный посторонним людям значок 4-А. Ждал он очень недолго. В большом, хорошо обставленном кабинете из-за письменного стола с телефонными аппаратами встал генерал, моложавый человек, с очень умным, волевым, неласковым лицом.
Затем было то, что всегда происходило в этом кабинете при посещении полковника: краткие, товарищеские приветствия и тотчас после них энергичный монолог генерала. Он отчаянно ругал всех, людей Пентагона, государственных людей, союзные парламенты, союзных генералов. Говорил, что настоящей армии у него нет и, при всех этих господах, не будет, проклинал день и час, когда его с боевого поста перевели в это трагикомическое учреждение. Союзные министры думают только о том, как бы продержаться у власти ещё месяц. Из трех союзных солдат один коммунист — как же на них рассчитывать? Деньги по-настоящему дают только Соединенные Штаты и то очень мало. И есть лишь одна настоящая армия, американская, до смешного численно недостаточная. Затем он понемногу успокоился и очень внимательно выслушал доклад полковника, вставлял толковые замечания, задавал дельные вопросы, из которых ясно было, что он все понимал с первого слова; кое-что он кратко записывал на листках из блокнота, кое-что разрешал, кое-что отклонял. Очень одобрил план полковника.
— ...Да, это было бы превосходно. Попробуем. Могут ухватиться за новое, печкой они, кажется, ещё не интересовались. А если эта милая дама хороша собой, то пусть мальчик и позабавится, ничего против этого не имею. Я завтра же распоряжусь об его переводе. Там во всяком случае он будет не более бесполезен, чем на его нынешней работе.
Позвонил телефон. Весьма значительное лицо что-то сообщило из Парижа. Лицо у генерала стало ещё гораздо менее ласковым.
— ...Для этого у нас существует public Information, — сердито сказал он. Но, по-видимому, значительное лицо просило очень убедительно: генерал, еле прикрыв рукой трубку, выругался, справился по настольному календарю и назначил час.
— Больше десяти минут я им не дам и завтракать с ними не могу, с ними позавтракает кто-нибудь другой... Не стоит благодарности. До свидания, — сказал генерал и, повесив трубку, обратился к улыбавшемуся полковнику:
— Вот на что уходит время! Какие-то важные лица из Рейкьявика желают меня видеть! Какой ещё к черту Рейкьявик?
— Рейкьявик это столица Исландии, — сказал полковник, хотя знал, что его указание генералу совершенно не нужно: генералу отлично известно, где Рейкьявик и даже что происходит в Рейкьявике.
— Если б мобилизовать все население Исландии, то нельзя было бы образовать одну дивизию! — гневно сказал генерал.
И. как всегда, полковник вышел из этого кабинета несколько успокоенный. Ему иногда, в дурные минуты, приходило в голову, что по существу положение в мире безнадежно — и, как ни странно, для обеих сторон. Теперь он говорил себе, что очень важные дела находятся в руках очень умного человека, превосходно знающего свое ремесло (в военный гений каких бы то ни было генералов полковник давно плохо верил, особенно потому, что всех их знал лично). В этом генерале было приятно ещё и то, что он нисколько не стремился принадлежать к intelligentsia или ей нравиться.
Как человека, с которым генерал говорил почти час, его проводили очень почтительно и обещали тотчас вызвать к нему племянника. Служебный день уже кончался. На площади как раз происходила церемония перемещения флагов: они ежедневно по определенному порядку менялись местами; не менял положения только французский флаг — всегда занимал одно и то же, самое почетное, хозяйское место. Полковник любил военные церемонии, полюбовался и этой. «Всё-таки наши солдаты лучшие в мире».
Тотчас появился племянник, молодой красивый лейтенант. Он не ожидал дядю и очень ему обрадовался. Полковник любил Джима, оставшегося с детских лет на его попечении. Джим относился к дяде с ласковой снисходительностью начинающего жизнь человека к кончающему карьеру старику. Ценил его заботливость и щедрость, знал, что при дяде никак не пропадешь, и почтительно выслушивал его постоянные нотации. Все это могло с натяжкой передаваться словами, что он любит дядю. Но полковник иллюзий себе не делал. «После моей смерти немного погорюет. Даже не сразу утешится наследством в тридцать тысяч долларов,