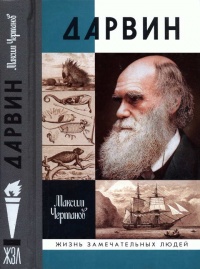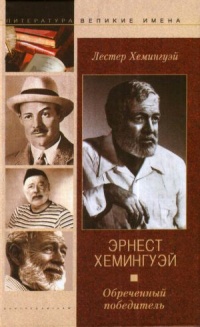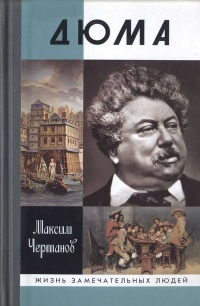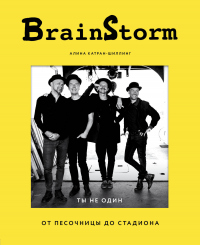Хватит морочить нам голову, давайте настоящего Хемингуэя — сравним… Пожалуйста: «У Скриппса О’Нила было две жены. Стоя у окна — долговязый, худой, мрачный, — он думал о них обеих. Одна жила в Манселоне, другая — в Петоски. Жены, что жила в Манселоне, он не видел с прошлой весны. Он смотрел на заснеженный двор насосной фабрики и думал, что же сулит ему весна. С этой манселонской женой Скриппс часто напивался, и тогда они оба бывали очень счастливы. Шли до железнодорожной станции, потом дальше по линии, усаживались на землю, пили и смотрели, как мимо проходят поезда. Расположившись под сосной на пригорке, они сидели и пили. Бывало, всю ночь, а то и всю неделю. Это шло им на пользу. Придавало Скриппсу сил». Это — Хемингуэй? Пародия на Хемингуэя? Самопародия? Да как сказать: это «Вешние воды», пародия Хемингуэя на роман Андерсона «Темный смех»… Приводим эти примеры не затем, чтобы доказать, что Хемингуэй всецело находился под влиянием Андерсона. Просто хотелось бы понять, почему младший коллега совершенно затмил старшего. Только потому, что охотился на львов, был в осажденном Мадриде и ловил шпионов, а Андерсон ничего этого не делал? Или было что-то другое?
Андерсон был намного старше обитателей «Бельвиля» — 44 года. Он необычно одевался, любил прихвастнуть, поучал; молодежь над ним подсмеивалась. Хемингуэй, по свидетельствам других жильцов, вел себя с Андерсоном вежливо и кротко, но после его ухода делал критические замечания. Ни этих замечаний, ни реплик, которыми Андерсон и Хемингуэй обменивались, к сожалению, никто не фиксировал; известно только, что Эрнест о какой-то андерсоновской фразе сказал, что «так писать нельзя» и что, по мнению Кенли Смита, кротость его была враждебная — он молча сопротивлялся тому, что «учитель» навязывал. Чему сопротивлялся, если сам хотел писать так же? Считается, что литературные пути Хемингуэя и Андерсона разошлись, когда последний стал писать «потоками сознания», а Хемингуэй этой манеры не то чтобы не принимал, но по возможности старался избегать. В 1920-м до этого расхождения было еще далеко, хотя Андерсон уже тогда высказывал идеи о «бессознательном письме», которое фиксировало бы переживания человека. Но когда сходятся два писателя, задавшихся целью найти «единственно верное слово», им никогда не найти согласия, ведь каждый считает, что «единственно верное» слово — то, которое придумал он. Кроме того, Андерсон любил рассказывать об «озарении», которое пережил, и противопоставлять нищую богемную жизнь успеху; Хемингуэя это раздражало. Он не верил ни в какие «озарения», полагая, как следует протестанту, что только сознательный труд приведет к успеху, в котором ничего дурного нет.
Он продолжал писать очерки для «Торонто стар уикли» и за период с октября 1920-го по декабрь 1921-го опубликовал их как минимум 13: о боксе, бейсболе, рыбалке, плохих продуктах (травят народ нитратами). Были статьи о национальном характере американцев, получалось смешно, канадцам нравилось читать, как вульгарны их северные соседи и как бы они вели себя, если б им удалось «купить» Шекспира: «Английский городок на Эйвоне украсился американскими флагами, на всех зданиях вывешены плакаты: „Мы хотели Билла, и мы его получили! Да, Билл!“».
Писал он также о чикагском преступном мире, с броскими заголовками: «Ирландские убийцы. Цена поднимается» (11 декабря 1920 года). «Согласно слухам из преступного мира Чикаго и Нью-Йорка, каждый пароход, отбывающий в Англию, везет на своем борту одну или парочку ласточек смерти, всегда готовых устремиться туда, где на них появляется спрос. В притонах говорят, что сначала пташки доставляются в Англию, где они рассеиваются в портовых районах таких городов, как Ливерпуль, а потом уже перебираются в Ирландию. За убийство хорошо охраняемого судьи или какого-нибудь чиновника платят тысячу долларов. Экс-убийце, с которым я беседовал в Чикаго, эта цифра показалась фантастической». Действительно ли автор беседовал с наемным убийцей? Да кто ж его знает… 28 мая 1921 года — продолжение: «Война гангстеров в Чикаго»: «Антонио д’Андреа, бледный человек в очках, потерпевший поражение кандидат в олдермены от 19-го округа города Чикаго, вышел из закрытой машины перед своим домом и с автоматическим пистолетом в руке, осторожно пятясь, начал подниматься по лестнице. Когда он достиг двери и протянул назад левую руку, чтобы нажать кнопку звонка, из окна соседнего дома ослепительно сверкнули две красные вспышки, д’Андреа услышал оглушительный треск и почувствовал страшную боль во всем теле от ударов пуль из выстрелившего обреза. Так окончился путь, начавшийся в маленьком сицилийском городке, где бледнолицый юноша готовился принять сан священника».
Чарльз Фентон разругал статьи о гангстерах: ленивые, скучные клише, вырождение таланта в механическую компетентность. По сравнению с «Керенским» молодой журналист писал все хуже — видимо, ему надоело. Он пытался писать художественные тексты, но лишь два, созданных в чикагский период, были изданы, и то не сразу, а в 1922 году в нью-орлеанском журнале «Двурушник»: «Жест пророка» (A Divine Gesture), причудливое, абсолютно нехарактерное для Хемингуэя эссе, в котором Бог «с бородой, как у Льва Толстого» и архангел Гавриил беседуют с одушевленными цветочными горшками и другими предметами (поколения критиков умерли, не поняв, что это было — пародия на дадаистов или поиск новых форм), и стихотворение «Наконец» (Ultimately). Он как будто на время разучился писать. Такое бывает, когда человек хочет внести в работу что-то новое, а что — еще не знает.
Всю зиму он слал Хедли детские письма, полные рассказов о сослуживцах, о бейсбольных матчах, о том, как он боксировал с Кенли Смитом (и, разумеется, побил его), то хвастался, то уничижался, сообщал, что Гэмбл, вернувшийся в Италию, снова зовет его и он вот-вот с ним уедет, сомневался, может ли он, такой старый (при знакомстве с Хедли он прибавил себе год — странно, что не десять), видавший виды и разочарованный, еще любить, жаловался, что живет «на 2–3 пенни вдень», что вынужден подрабатывать спарринг-партнером в боксерских поединках (это не подтверждено), что мог бы учиться в университете, если бы не злая мать. «Тебе не нужен университет», — говорила Хедли, а на его самобичевания отвечала: «Я не могу допустить и мысли, что в тебе есть что-то плохое. Я очень люблю тебя и хочу любить еще сильнее» (он в ответ писал, что любит ее «в лучшем случае чуть-чуть»).
Биографы, исходя из сходства семей Эрнеста и Хедли, считают, что оба были людьми, потерпевшими крушение и нашедшими утешение друг в друге. Но свидетели романа отмечали, что Эрнест был энергичен, как бомба, весел, никаких признаков страдания не обнаруживал; Хедли также всем запомнилась как жизнерадостная девица. Последователи Линна видят в том, что юный Хемингуэй влюблялся в женщин старше себя, «комплекс матери»; к Агнес это, может, и можно применить, но Хедли, несмотря на свои 30 лет, окружающим казалась скорее девочкой, чем дамой. Оба вели себя как дети: он пускал дым из ноздрей, шевелил ушами, ее это приводило в восторг. Хедли просила его не уезжать в Италию: она Гэмбла не знала, но идея жить за чужой счет казалась ей губительной, и она, как и Агнес, видела в этом приглашении что-то нехорошее. Впрочем, женщины ничего не смыслят в мужской дружбе.
Хедли приглашала Эрнеста в гости (она жила в Сент-Луисе с семьей сестры). Мы практически ничего не знаем о его внутреннем мире и — точь-в-точь как в его прозе — вынуждены по внешним проявлениям домысливать «семь восьмых айсберга»: судя по тому, что он согласился не сразу, а уже когда поехал, то как жених — купил костюм от братьев Брукс, взял с собой армейское кепи и папку со своими статьями, — можно предположить, что он долго колебался. Его приятель Дженкинс звонил ему накануне отъезда, пытался отговорить от женитьбы — возможно, об этом разговоре он помнил, когда писал рассказ «Трехдневная непогода»: