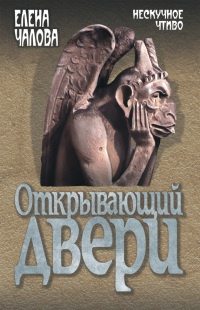Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 73
Хмель уже отпустил меня, оставив только тупую ноющую боль в висках и легкую тошноту, – водка и шоколад, сцепившиеся у меня в желудке, привыкшем в последние месяцы только к водянистому, едва соленому рыбному бульону, никак не могли улечься и бунтовали.
Господи, думала я, с отвращением вдыхая запах оттаявшей, разогретой рыбы, неужели когда-нибудь наступит день, когда мне больше не придется это есть, я отдала бы правую руку за кусок мяса, за ароматный, только снятый с огня стейк, прожаренный совсем чуть-чуть, истекающий розоватым прозрачным соком, присыпанный плачущими крупными зернами свежеразмолотого перца, я съела бы его безо всяких соусов, даже без вилки и ножа, урча, разрывая зубами нежное упругое мясо; хотя… – к чёрту австралийскую говядину, к чёрту триста дней зернового откорма, – я согласна на курицу, обычного подмосковного бройлера, зажаренного в меду, с чесноком и травами, с хрустящей золотистой корочкой, я согласна даже на вареную колбасу – один, всего один толстый перламутровый кружок, состоящий из целлюлозы и пищевых красителей, уложенный на пышный, воздушный кусок белого хлеба, – мне всё равно, только бы не видеть больше этого алюминиевого ведра, до половины наполненного резко пахнущими рыбными трупиками, плавающими в талой холодной воде, только бы больше никогда не прикасаться к этой склизкой чешуе, не резать пальцы колючими плавниками.
Охотничий нож с толстой и неудобной изогнутой ручкой вдруг дёрнулся и соскользнул с мокрого, тощего рыбьего хребта, и широкое острое лезвие обожгло мне левую руку – я охнула, выронила нож и прижала раненую руку ко рту, почувствовав солоноватый привкус, вот тебе твой стейк с кровью, сказала я себе, это единственное, на что ты можешь сейчас рассчитывать.
Как же так вышло, в тысячный раз подумала я, не поднимая на нее глаз, трогая языком глубокий порез на указательном пальце, ощущая во рту вкус собственной крови, как же это получилось? Чем я заслужила эту ежедневную пытку, за какие грехи расплачиваюсь здесь – каждый день, каждую минуту? Как будто мало было потерять маму, бросив ее умирать в закупоренном кордонами городе, оставить дом, который мы так любили, на разграбление неизвестным, больным мародёрам, потерять даже надежду на достойную, человеческую жизнь, вытерпеть столько ужаса, убегая от волны – безжалостной, наступающей нам на пятки, – только для того, чтобы мёрзнуть в этой грязной развалюхе, голодать, гадить под ёлками, как бродячие собаки. И ведь я всё это смогла бы принять, как должное, и была бы благодарна за то, что мы – я, Мишка и Серёжа – остались живы, уцелели, спаслись, – если бы не презрительная и холодная бывшая жена, с утра и до самого вечера делающая вид, что меня не существует, и её неулыбчивый ребенок, забирающийся к Серёже на колени в ту же секунду, как тот входит в дом, и висящий на нём до тех пор, пока его не уложат спать – в соседней комнате, за тонкой деревянной перегородкой, из-за которой слышен каждый звук, каждый вздох.
Если бы не эта женщина и этот мальчик – потому что, пока они находятся рядом, я не могу заставить себя протянуть руку и потрогать Серёжу, обнять его, прижаться к нему, и то, что он мой, давно уже мой, я чувствую теперь только ночами, лёжа с ним рядом на продавленной железной кровати, и во время торопливых, мимолетных соитий, происходящих снаружи, на морозе, возле предательски скрипящей дощатой стены. И если бы ещё не эта вторая, сочащаяся ядом женщина, с которой у меня не было сил бороться даже тогда – пока всё остальное было в порядке – и которая по-прежнему одной фразой способна надолго лишить меня спокойствия.
– …не думаю, что это разумно – кокетничать с этими животными, – говорила она в эту самую минуту, – бог знает сколько времени у них не было женщин, я бы лучше вовсе с ними не заговаривала, особенно когда защитник твой спит лицом в коробке из-под конфет. – Она слегка качнула головой в сторону неподвижно обмякшей Серёжиной фигуры за столом, и мягкая, кошачья улыбка вновь изогнула ее губы, но, прежде чем я успела раскрыть рот и ответить ей хоть что-нибудь, Ира стряхнула приставшую к ножу требуху обратно в ведро, вытерла лоб тыльной стороной ладони и сказала:
– Что-то я не заметила, чтобы ты отказалась от шоколада. Видела, сколько они принесли всего? Там еще полбанки сгущенного молока осталось, и печенье, и чай – ты вообще представляешь, как это нужно детям? Если всякий раз после разговора с этими животными я смогу неделю кормить ребенка, я буду говорить, пока у меня язык не отсохнет. – Тут она подняла голову и продолжила – гораздо мягче, почти ласково, хотя глаза ее при этом нехорошо блеснули: – У тебя просто нет детей, Наташа, – наверное, поэтому ты не понимаешь.
Наташина улыбка мгновенно стекла вниз, как будто ей в лицо плеснули кислотой, а я смотрела на нее жадно, с любопытством, и думала: вот оно, твоё слабое место, о котором я за три года не сумела догадаться, вот как можно тебя остановить, заставить замолчать, стереть эту мерзкую фальшивую улыбку, и еще я подумала: а ведь они тоже, оказывается, не друзья, эти две женщины, столько лет дружившие домами, – хотела бы я знать, на какой ноте закончилась эта дружба и была ли она вообще.
– Сильно порезалась, Аня? – поспешно спросила Марина тонким, испуганным голосом. Чёрта с два тебе интересно, сильно ли я порезалась, подумала я, ты просто не любишь неприятных разговоров, ты не хочешь конфликтов, потому что каждая ссора в этом крошечном тесном доме мгновенно разбухает настолько, что, пожалуй, способна выдавить наружу мутные оконные стекла, так что когда они клюют меня – по очереди или, как сейчас, клюют друг друга, ты не принимаешь ничью сторону, ты боишься и просто стараешься заговорить о чём-то безобидном, нейтральном, отвлечь их внимание, потому что рано или поздно им это надоест, и тогда они примутся за тебя тоже.
– Ерунда, – сказала я, вынула палец изо рта – бледные обескровленные края пореза немедленно снова окрасились красным – и опять взялась за нож.
Оставшуюся рыбу мы чистили молча.
* * *
Назавтра они принесли сигареты.
Это была кислая, пахучая «Ява» – четыре смятых белых пачки с красными буквами, советский «Лаки Страйк», пошутил Серёжа, – но ничего ароматнее, вкуснее и долгожданнее я не смогла бы вспомнить, сколько бы ни старалась; как только пачки оказались на столе, ещё тёплые после широкого Анчуткиного кармана, я уже не отводила от них глаз.
Кажется, было что-то ещё: кусок хозяйственного мыла, две упаковки макарон и небольшой, надвое перевязанный полиэтиленовый пакет сахара, – при других обстоятельствах я обязательно обрадовалась бы этому неожиданно свалившемуся на нас богатству, но стоило мне увидеть эти четыре продолговатых бумажных кирпичика, я смотрела только на них. Потому что мы не курили четыре месяца, – если не считать наших с Серёжей январских ночных экспериментов с чаем, – и не было дня, чтобы я не чувствовала этой острой жажды, этого покалывания под языком, которое было сильнее голода, сильнее всего остального.
Я протянула руку – и на мгновение задержала ладонь над этим сокровищем, небрежно брошенным на клеёнку, и подняла глаза, чтобы убедиться в том, что я на самом деле могу сжать пальцы и поднять невесомую картонную упаковку, сорвать хрустящий, тонкий целлофан, отогнуть фольгу, ухватить один из двадцати туго набитых табаком бумажных столбиков, поднести его к губам и поджечь.
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 73