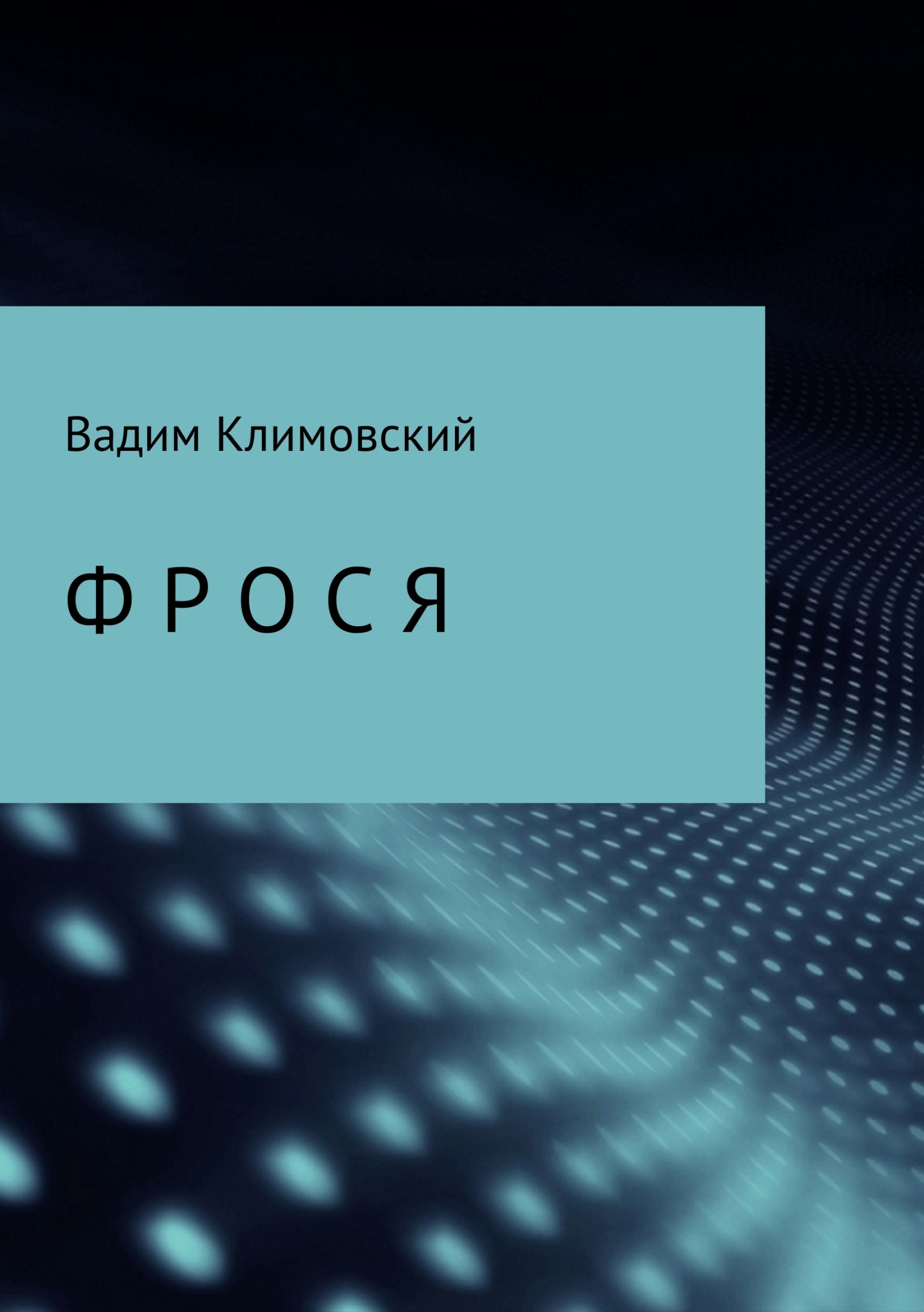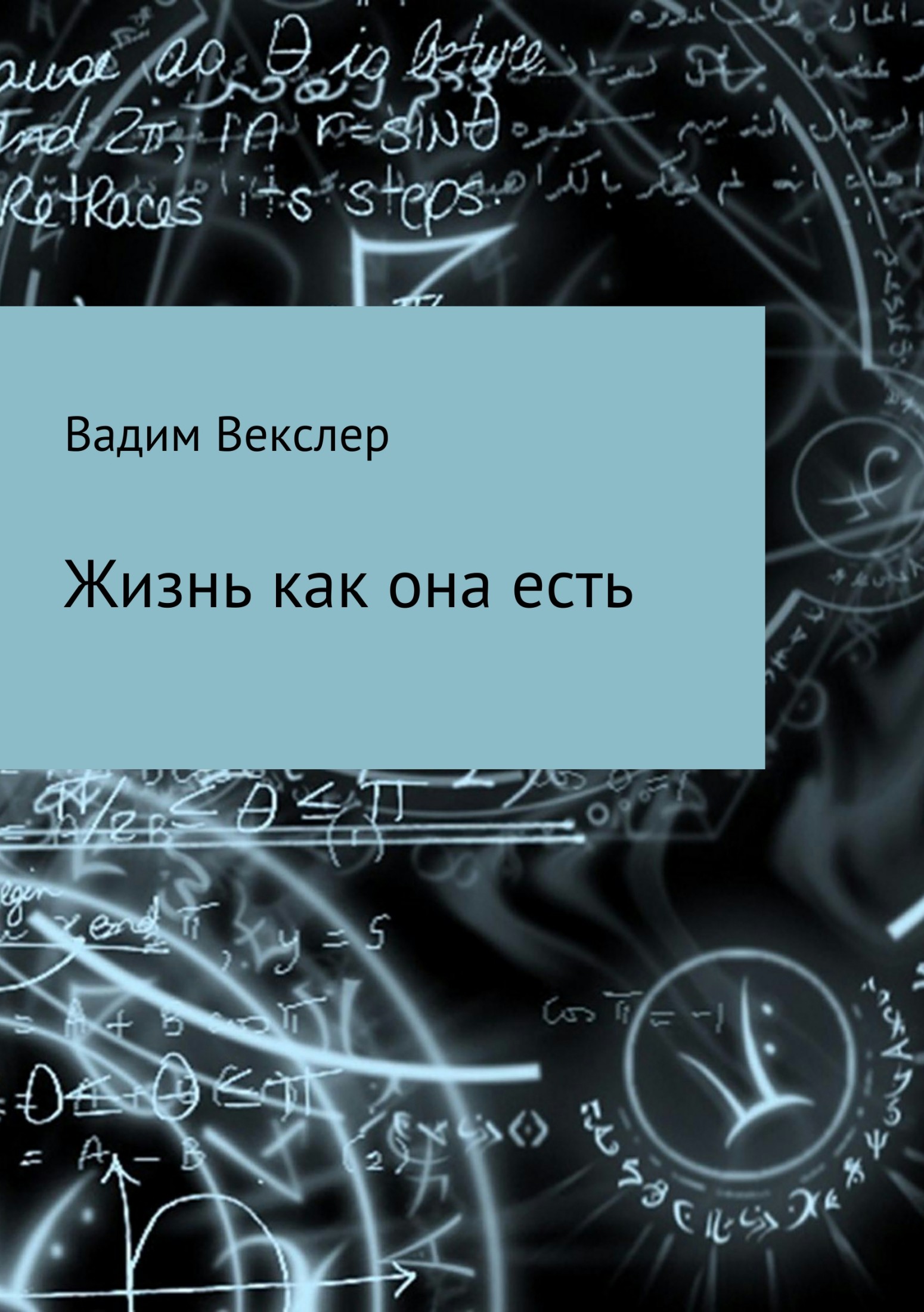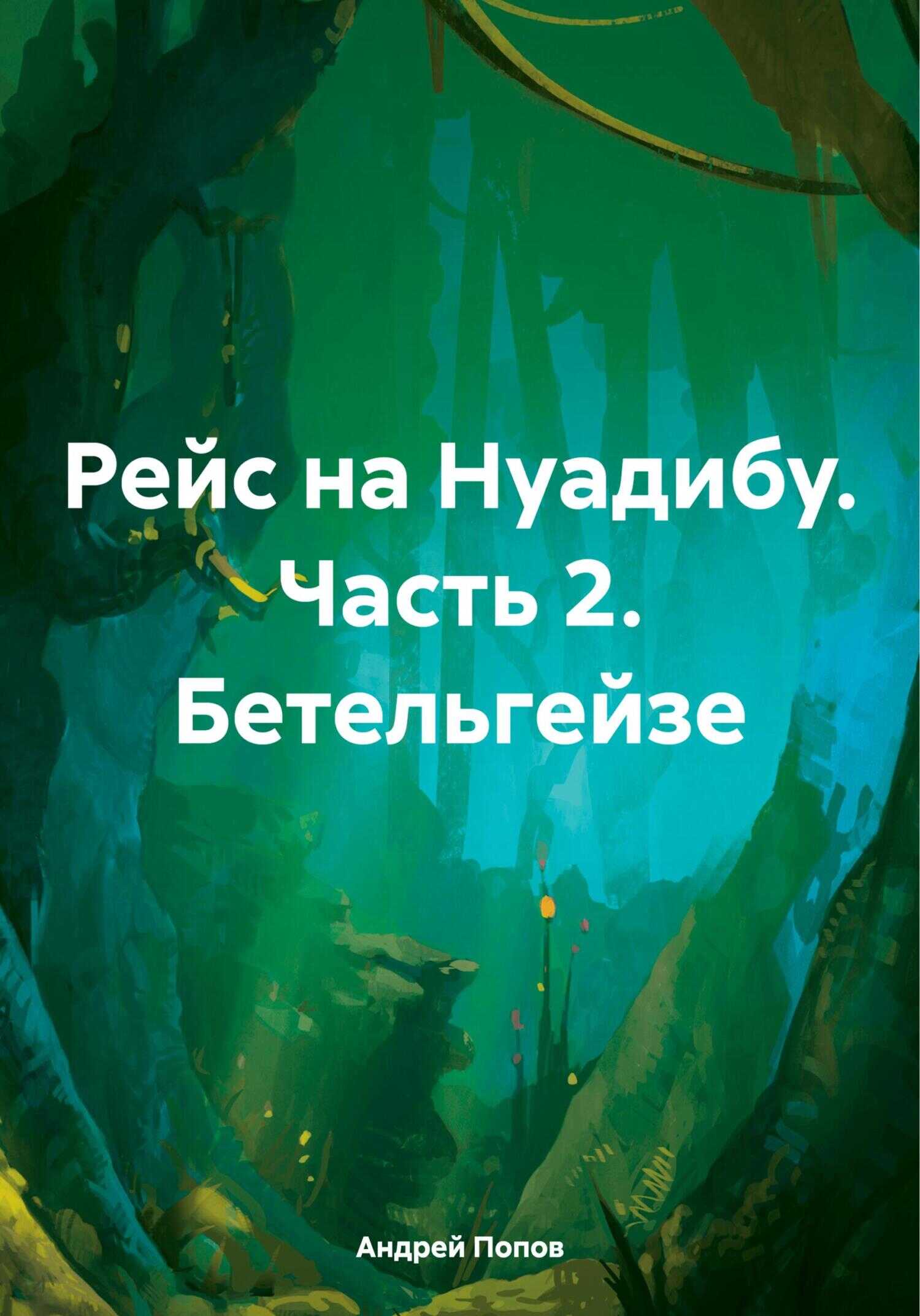Хлипкие и поблекшие, вобравшие в себя слабость времени, а не его терпкий густой запах. Эта слабость перебралась сюда. В этом нагромождении вещей теряется всякое усилие. Это не починить и не выбросить. Оно занимает место – и не только пространство. Если уже есть стол, не купишь еще один. Если есть шкаф, то другой уже некуда поставить. Вот и здесь – вакансий нет. Все места заняты. И надо быть другим человеком, не таким, как я, чтобы начинать что-то менять. Я только и могу, что тосковать о неназванном, теребить призраки застывших человеческих стремлений. Пришла кошка. Потерлась и помяукала. Ласковая, добрая, родная.
– Согласно этой справке у вас уже было гражданство.
– Да, было.
– Тогда ничего не получится. Вариант был только в том случае, если у вас с рождения не было бы никакого. Но вы приняли гражданство другой страны, вы потеряли свой статус.
– Но что мне теперь делать?
– У вас очень интересная нетипичная ситуация, для которой еще не разработаны четкие правила и процедуры. Все очень запутано. И запутано на ровном месте… Вы сами во всем виноваты.
– Я понимаю, но что мне теперь делать.
– Ничего. А там видно будет.
В моей смерти прошу никого не винить. У разбившегося черепа разрастается густая кровавая лужа. Я шагал, шагал, шагал. Пока холодный ветер не выдул, пусть и частично, мое черное отчаяние. Я никогда не гулял по своему новому району. С удивлением вышел на широкий проспект за дальними домами, пошел вдоль него. По левую руку высились портовые краны, пахло рыбой, солью, мазутом и железом. И так же неожиданно я вышел к паромной переправе. Подошел к воде. У набережной были пришвартованы катера и лодки, по бокам висели черные старые покрышки. Город отступил назад. В стороны и ввысь раскинулись небо и вода. Я хотел поплакать. Но ничего не получилось.
Ночь сплеталась из пугливых снов и беспокойных вздохов бабушки. Я накапал ей валокордин. По потолку пробегали прямоугольники отраженного с улицы света. Нагромождения вещей на местах их временных пристанищ причудливыми черными очертаниями то обступали, то, словно волны, откатывали.
На следующий день в школу я не поехал. Вышел на улицу. Пересек двор, направляясь к переправе.
– Эй, братиша, подкинешь немного деньжат?
Так и есть, они самые. Серые, болезненные, источающие свой сладковатый густой запах, натянутые до обрыва, опасные. Со мной особо разговаривать никто не стал. Я был чужаком, по ошибке забредшим туда, куда совершенно не следовало. Я нарушил незримую границу. Когда меня били, я с удивлением ощущал облегчение. Страха больше не было. Только яркие вспышки перед глазами, когда чья-нибудь нога с лету футболила мою голову. Гол. И я потерял сознание. Я очнулся от холода, лежа на земле, на полусгнившей траве под забором. В некотором удалении кто-то стоял и ждал, когда я очнусь. Я пошевелился, постанывая от всплесков боли, перевернулся на бок. Я был без куртки и без ботинок. Один глаз не открывался, и я видел все как на плоском экране в кинотеатре. Звук был соответствующий.
– Ты дурак, – сказала Алла.
Алла училась в нашей школе, но потом ее перевели или исключили. Говорили, что она стала героинщицей. Лицо ее было как скорбная маска, и губы словно не шевелились.
– Они хотели тебя убить, ты им не нравишься.
Я молчал. Странное кино.
– Но я сказала, что тебя знаю. Этого будет недостаточно. Они в следующий раз не остановятся.
Она стояла все там же и не подходила ближе. Грязная земля. Ржавая сетка-рабица. Низкое небо. Черно-белый мир.
Но маятник настроения на то и маятник – если он не сломан, то не остается на месте. И уже на следующий день, глядя на расступившееся небо, на облака в свете низкого холодного солнца, я наполнялся уверенностью, что все образуется, что все идет по плану, и этот план подписан не мною, в этом моя судьба, и поезд уже не остановить. Мы с бабушкой заварили чай из ее запасов, и она даже дала мне деньги, чтобы я сходил в магазин и купил сникерс. Поделив его на две равные части, мы пили чай вприкуску и размышляли, как это будет. Мы приедем в начале лета, большой город встретит нас шумной и равнодушной толпой, снимем квартирку поближе к моему колледжу, чтобы я спокойно сдавал экзамены. Здешняя квартира будет искать своего покупателя, и с этим тоже проблем быть не должно, несколько месяцев можно и подождать. После моего поступления мы купим квартиру, я устроюсь на подработку, будем жить скромно, но с единицей в уме, ведь я молодой, я все смогу, ведь там – это не здесь. Там…
Ночью я ворочался, то засыпая, то просыпаясь от бабушкиных вздохов. Они становились все чаще, они вплетались в мою дрему.
Я услышал только, как бабушка сгоняет кошку и садится на кровати.
– Мне плохо, – выдыхает она.
– Бабуля, спи, – бормочу я.
И после этого абсолютная тишина. Я с облегчением проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь утром. Бабушка мертва.
На похоронах только я и родители. Мама плачет не переставая. Отец плохо себя чувствует. Я бросаю ком сырой глины в могилу, дальше могильщики быстро закапывают. Холодно. Моросит дождь. Мама сгорблена. Похожа на старушку. Мы едем в автобусе с кладбища вместе. Почти не разговариваем. Но мне хорошо рядом с ними, как давно не было. Словно мы опять одно целое. Доехав до центра, мы выходим из автобуса, идем некоторое время в одну сторону. Они держатся друг за друга и идут чуть поодаль от меня. Проводив их до парадной, я прощаюсь с ними, отчего им словно становится легче. Я не застаю дома Айвара, иду к дому Тани. Мы стоим на крыльце. Таня хохочет над моими шутками, и я остроумен отчаянно, как никогда до этого. От смеха она не может дышать. Мне страшно возвращаться домой. Я предлагаю остаться с ней до утра. Она не может отдышаться, продолжает хохотать.
Прижав кошку к себе, я чувствую, как бьется ее сердце. Я выхожу из квартиры. Спускаюсь вниз. Во двор. Воняет от стоящих неподалеку мусорных контейнеров. Кошка испуганно мяучит. Я не пытаюсь успокоить ее. Я не пытаюсь найти оправдание себе. Я захожу за угол дома, идет дождь, она дрожит. Я отдираю ее когти от себя и опускаю на землю у окна в подвал. Она не перестает звать и жаловаться. Она старая. Она не проживет на улице и двух недель. Но, быть может, кто-нибудь будет более милосердным, чем я. Из