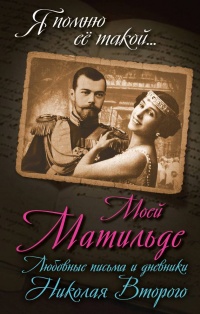Ознакомительная версия. Доступно 45 страниц из 224
– Вот станешь попом, дадут приход, так даже страшно помыслить, что будет. Налипнут на тебя бабы, как мухи на патоку!
Но Труфанов был склонен к аскетизму – редкое явление по тем временам, и Феофан, ректор Академии, стал заранее выдвигать студента – как нового апостола церкви, который должен заменить Иоанна Кронштадтского, издыхающего от неумеренного потребления хересов. По рукам семинаристов ходила тогда крамольная картинка. Был изображен стол, полный яств, а вокруг стола пируют тучные митрополиты, архиереи и монахи, венчанные надписью «Мы молимся за вас!». А ниже, под столом, рабочий ковал железо, пахарь возделывал землю, и было начертано: «А мы работаем на вас!»
– Это неправда, – возражал Серега Труфанов. – Духовное есть духовно, и вы меня такими картинками не искушайте…
Труфанов был сила, но непутевая сила. Талант, но бесшабашный талант, искривленный и дикий. Он был еще студентом, когда слава о нем как о духовном витии уже гремела. Генералы присылали за ним автомобили, и, встав на дрожащий радиатор, Серега держал перед солдатами погромные речи. По его словам выходило так, что во всех бедствиях Руси повинны евреи и интеллигенция:
– Бей их так, чтобы от них одни галоши остались…
Петербург жил своей жизнью. За стрелки островов выбегали белоснежные речные трамваи, звонко цокали подковами по торцам лихие рысаки, шумели на Озерках рестораны с гуляющей публикой, дразняще ликовал в зелени женский смех, всегда волнующий чувства, оркестры пожарных команд раздували над парками щемящую тоску старомодных вальсов-прощаний, в магазине у Елисеева даже в лютейшие морозы торговали свежей клубникой, а по вечерам неистовствовали загородные кафешантаны, и там пели канканирующие красотки, вскидывая ноги в белой пене шуршащих кружев:
О Марианна, о Марианна,
простись с прославленным полком,
о Марианна, опять ты пьяна,
остыл твой кофе с молоком…
Ну, скажите мне, положа руку на сердце, какому дураку в бурной и праздничной жизни хочется стать монахом? Труфанов и стал им, приняв новое имя – Илиодор … Он блуждал по Невскому, безумный инок, пугавший проституток речами о «страшном суде» на том свете. Босой праведник, опоясанный размочаленным вервием, Илиодор сшибал очки с носов прохожих, говоря при этом: «У-у, интеллигент поганый, морда твоя жидовская!» Духовная дорога уводила инока в дебри политики. В голове монаха самым диким образом совмещались идеи крестьянского народничества с махровейшими идеями черносотенства. Идя от бога, Илиодор хотел выйти к народу с его нуждами, но дорогу к народу не знал и пошел вкривь и вкось, словно пьяный. Человек гибкого ума, мракобес широкого масштаба, великолепный оратор, способный увести за собой тысячи, десятки и сотни тысяч людей, – фигура архисложная!
Феофан голубил Илиодора, зазывал в свои лаврские покои, пили они чай с клубничным вареньем, и молодой взвинченный монах раскрывал ректору свою душу, испепеленную ненавистью к «очкарикам», к романам Льва Толстого и к революции грядущего.
– Есть у меня мечта, – говорил он, – издавать журнал «Жизнь и Спасение», на обложке коего изображен квач малярный, и этим квачем мажут рожу дураку в очках. И хочу, владыка, пустить в народ газету по названию «Гром и Молния», а чтобы девиз у нее был такой: «Пролетарии всех стран… разбегайтесь!»
– Мажь квачем, Илиодорушко… все разбегутся.
Он был страшен, как погромщик, но царская власть еще не раскусила, что, взращивая Илиодора для своих нужд, она невольно готовит буйного протестанта, способного выступить и против царя. Тихое житие в келье Илиодора не прельщало. Протопоп Аввакум, Никита Пустосвят, Арсений Враль-Мациевич, Ириней Нестерович – именно эти бунтари церкви стали для Илиодора апостолами, образцами для подражания… Однажды за чашкой чая ректор Академии завел речь о подвижниках, но Илиодор отмахнулся:
– Да где они! В нашем веке чудеса библейские не привьются. Эвон вчера над Обводным каналом аэроплан запущали с винтиком. Тоже чудо! Токмо рукотворное, а не божие.
– От этих самых аэропланов святости не жду, – отвечал ему Феофан. – А подвижники шевелятся… в лесах, где гады ползают. Недавно из Казани от миллионерши Башмаковой весточку получил. Пишет вдовица кроткая, что в Сибири завелся истинный подвижник по имени Григорий. Он ладно беса из нее выгнал…
– Любопытно бы на него глянуть! – сказал Илиодор.
– Григорий уже в пути. Наплел лаптей поболее и пешком к нам заявится, аки странник вечно гонимый…
Феофан уже взял нового «святого» на учет своей канцелярии – авось и сгодится! Если б эта новость отрыгнулась обратно в село Покровское, мужики скорее поверили бы в беса паскудного, но только не тому, что их Распутин способен к святости.
* * *
Соблазны всюду, как поглядишь, одни соблазны… Искушений столько, что страшно! Чуть свечереет над Лаврою, через забор сигают мрачные патлатые тени, во мраке смачно брякаются трехлитровые бутыли. Оглядятся вокруг – никого нет, и слыхать:
– Эй, Нюрка, лезь… Да тихо ты, дуреха лиговская!
В один из дней невыспавшийся Илиодор шел по темному академическому коридору, имея взоры опущены ниже долу, как и положено смиренному послушнику. На плечо ему легла ароматная рука.
– Братец Илиодорушко, – сказал Феофан, – а вот и Гриша навестил нас… тот самый, что в Сибири славно подвижничает!
Илиодор поднял глаза. Стоял перед ним мужик, который неустанно и очень быстро перебирал ногами, будто собираясь пуститься в пляс. При этом руки его находились в движении, а тонкая полоска губ раздвигалась, обнажая изъеденные кариесом зубы.
– Поцелуйтесь… вы ведь одного поля ягода, – сказал Феофан. – Что один, что другой – оба к богу тщитеся…
Распутин, еще больше дергаясь, полез целоваться.
«Григорий, – описывал его Илиодор, – был одет в простой, дешевый, серого цвета пиджак, засаленные и оттянувшиеся полы которого висели спереди, как две старые кожаные рукавицы. Карманы были вздуты, как у нищего, кидающего туда всякое съедобное подаяние. Брюки такого же достоинства, как и пиджак, поражали своей широкой отвислостью над грубыми халявами мужицких сапог, усердно смазанных дегтем. Особенно безобразно, как старый истрепанный гамак, мотался зад брюк! Волосы на голове старца были причесаны в скобку. Борода мало походила на бороду, а казалась клочком свалявшейся овчины, приклеенным к его лицу, чтобы дополнить все его безобразие. Руки старца были корявы и нечисты. Под длинными и загнутыми внутрь ногтями полно грязи. От всей фигуры несло неопределенным, но очень нехорошим духом…»
Так выглядел мессия, когда он впервые появился в столице. После поцелуев Распутин повернулся к Феофану и с улыбкой (Илиодор запомнил ее как «заискивающую, лукавую и противную») сказал:
– А ведь сразу видать, что братец круто молится…
Неясно, чего конкретно хотел Феофан от знакомства с Распутиным и чем бы вообще закончился его приезд в столицу. Но тут из поездки вернулся синодальный владыка Антоний и прогудел:
Ознакомительная версия. Доступно 45 страниц из 224