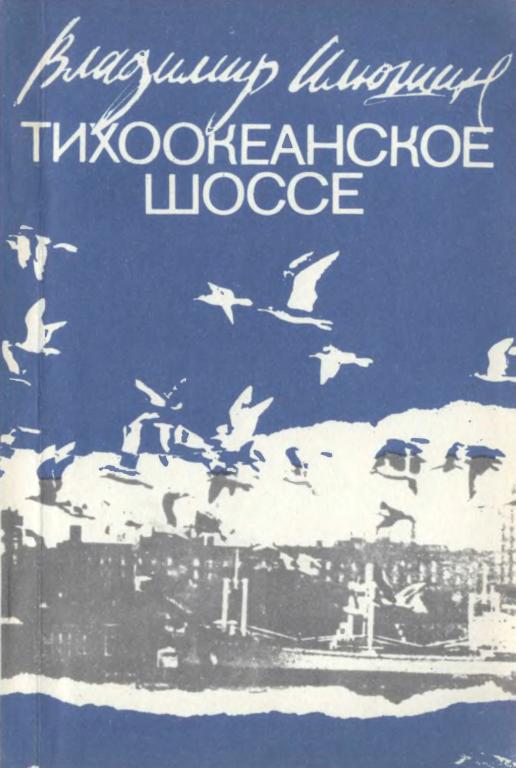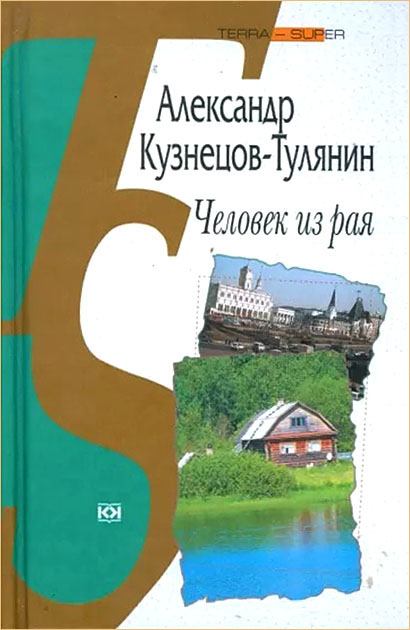в произведениях русских писателей – от Пушкина до современности – означает переход человека из состояния внутреннего одичания в очеловеченное, праведное: через живые и искренние чувства доброты, любви, сострадания.
Не следует забывать, что в случае с личутинским «Беглецом» перед нами – своего рода исповедь кающегося грешника. Содеянное им зло Хромушин видит в разрушительных плодах тех реформ, которые он конструировал рациональным умом и проводил в жизнь, будучи советником президента в 90-х. Отсюда – лишь отрицательное значение того начала в его душе, которое звериным образом проявляется в сновидческом зачине. Об очистительных процессах, которые вызывает осознание присутствия «зверя в душе», герой не думает, поскольку сам вовлечен в этот процесс, а не наблюдает его со стороны. Между тем по законам литературности зачин дает некий импульс, направляя все развитие романа в определенное русло. И все покаяния героя, его мучительные переживания собственного разрушительного воздействия на окружающий мир составляют своего рода сферу сопротивления борющейся со злом в себе души. Цель и итог такой борьбы – преображение, очеловечивание!
Рай утраченный – рай обретенный?
В такой устремленности героя и автора чувствуется мироощущение средневекового человека, склонного к поверке своей жизни Божественным абсолютом. Тогда «земной путь всякого человека сам по себе это лишь хаос, нелепая череда разрозненных фрагментов, обретающих единство и смысл только тогда, когда они озаряются светом небесной истины»(Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 21). Отсюда и убежденность личутинского «беглеца» в искажении нынешней цивилизацией предначертанного свыше пути.
«Видно, что-то нарушилось Божеское, заветное, и мир пошел в раскоряку, причудливо изъеденный червием. Когда-то и Зулус (речь идет о бывшем военном из материнской деревни Хромушина. – А. Б.) был пареньком природным, прилежным, а нынче похож на броневую машину, лишившуюся одного трака; елозит, вспарывая дернину, взревывая и пуская выхлопной чад, но не выбраться ему из болотного тягуна на город, откуда открываются цветущие долины. И сила вроде бы есть, но куда ее деть? Теперь нет для Зулуса любви, но только зов крови, а мертвый человек для него – падаль и бревно, по которому жалость излишня. Может, он один такой оглашенный, причудою жизни выпавший из человеческого порядка и сейчас страдающий за всех, перенимающий на себя все вины человечества?
Да нет же, вся Россия от края до края нынче, увы, живет по логической системе сбоев…».
В личутинском романе мотив заблудшего человечества, как мы видим из процитированного, противостоит христианской идее искупления через страдание и сострадание. Основной признак расчеловеченности, по Личутину, – утрата способности к любви как духовному чувству. По законам социал-дарвинизма, остается лишь зов плоти, крови. Вопросы жизни и смерти обретают тогда однозначно биологический смысл. Отсюда – череда смертей разных персонажей, завершающаяся смертью потерявшего дочь Зулуса. Таковы трагические следствия «системы сбоев» в природе вещей.
В «Расколе», «Скитальцах», «Беглеце» помещение автором героев в странные, необычные, экстремальные, невыносимые обстоятельства побуждает их к переходу в трансцендентные состояния, раскрытию неких сверхчеловеческих сил личности, позволяющих читателю заглянуть «по ту сторону» жизни и смерти.
Какова природа национальной личности, движущейся из глубин истории – в нынешние времена? Какие неведомые свойства сокрыты в человеке и раскрываются в экстремальных ситуациях переходного времени? Всё это вопросы национального самопознания…
В современной русской прозе проявляются разные ментальные переживания – «истязающее душу одиночество, тоска по лучшей доле», «гнетущее унынье», «эта безлюбовная одинокая жизнь», что столь «глубоко корежит, портит человека», и неизбывное чувство отторженности у пленника обстоятельств:
«Темная бездна вдруг открылась передо мною, и я в это мгновение (в момент смерти матери Хромушина. – А. Б.) ясно представил то, что отчаянно прятал от самого себя, – я остался один на всем белом свете; вот отчего так цеплялся за Марьюшку, ибо боялся осиротеть. Последняя защита… окончательно рухнула».
В преодолении этого мертвого слоя задействована не умершая еще душа, на дне которой сохранились воспоминания о золотой поре детства, о счастье материнской любви. Это – единая и порой единственная точка отсчета, задающая возможность человеческого воскресения, но и искаженность развития человека, от себя давно отступившего. Недаром первые две части пятичастного личутинского «Беглеца» проходят под знаком Матери-спасительницы, а третья открывается признанием невосполнимости утраты, вместе с которой обрывается родовая нить: «Со смертью матери… обсеклось, отступило от меня в потемки бытия родовое обиталище, земля отичей и родичей, коей утешал себя в горестные минуты».
Так что же остается людям? нашему герою? где искать спасение? и возможен ли рай успокоения в его мятущейся душе?
В противовес сковывающим формам мира внешнего, отчужденного столь важен для Личутина человек сокровенный, внутренний – самораскрывающийся в свободных движениях души на своем личном пространстве. Еще в 70‐х образ философа получил эпитет «домашний» в одноименной повести Личутина о Баныкине и его жене. Автор остался один на один с героиней в повести «Вдова Нюра», заглянув в сновидческие и дневные грезы одинокой охотницы. И в романе о «беглеце» герой сознательно отделяет себя от внешне-показной, парадно-официальной стороны жизни. Это именно беглец из сотворенного в расколотом обществе элитарного «рая», «блаженного острова» псевдодемократии. Подобно герою «Хромого беса» Лесажа (ср. созвучие фамилии личутинского героя – Хромушин), автор словно поднимает крыши, прикрывающие частную жизнь нынешних людей в деревне и городе: заглядывает вместе с читателем в дома, открывает бытовые обстоятельства, слушает вольные речи русского человека в застолье и «кухонных» революциях, даже проникает в мысли и чувства, сокрытые в глубинах человеческого «я».
Что же там? к чему стремится сокровенный, подлинный – отринувший свару за власть и участие в разграблении многострадальной своей отчизны – человек?
«Давно ли горел, метался по Москве, сжигал себя на словесных ристалищах, вербуя сторонников, перетягивал колеблющихся на свою сторону, подбрасывая в их засохшее воображение картины грядущего преображения России, и полагал, что только для бури и был рожден, но когда волнение штормовое утихло, когда море сгладилось, и вся пена осела на берег вместе с медузами и водорослями, испускающими пряный запах, оказалось, что мой безумный бег по столице и проповеди истин были воплем ослепшего человека посреди безгласной пустыни. И тогда лишь понял, как ладно, оказывается, жить взаперти, нетревожно, отгородившись от безумной гонки за славою и чинами».
Но и здесь автор избегает однозначной оценки, испытывая в какой-то мере недоверие к добровольному отшельничеству героя и собственно бегству его из «рая». Феномен Бегства, сменивший в эпоху цивилизационного слома возвышенное Скитальчество, в романе о «беглеце из рая» развертывается разными гранями. В личностно-семейном плане он относится к типу беглеца от семьи и обязательств. Вот как мать Павла-сколотыша вспоминает о его отце, напоминающем Степку из «Скитальцев»: «Бегун был… родного угла не знал, тепло не хранил, ворота всегда нараспашку». Но «рай», куда и откуда бегут герои в романе, – не только мирный родной дом, неизбывно притягивающий человека…
Концепт «рая» и русская судьба
Думается, смятенное