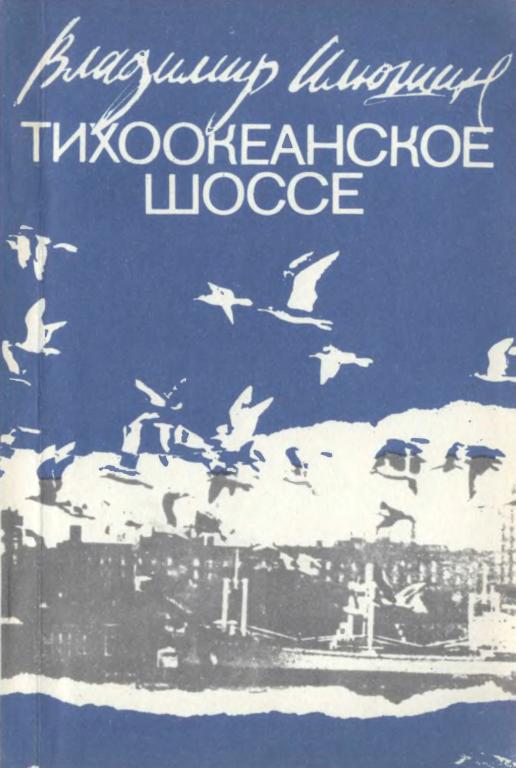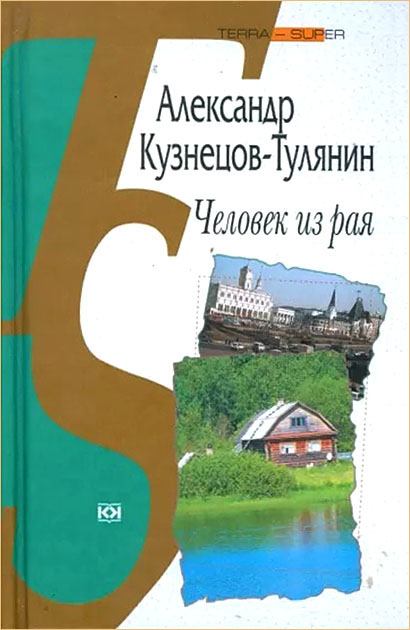профессора смертоносными миазмами и обвиняя его в гибельном развитии сюжетных линий. Философия от этого отодвигается куда-то подальше, а на первый план выходит детективная интрига, и весь роман воспринимается чуть ли не как история серийного убийцы вроде «парфюмера» или «коллекционера» новой формации. С другой стороны, критик свел эту линию лишь к сюжетности: к историям нескольких связанных со «зловещим» профессором персонажам, уйдя от общественной роли героя и его типологического статуса.
На самом деле всё гораздо сложнее и одновременно человечнее, просветлённее. Недаром В. Вавжинчак, автор статьи о личутинском герое как «неизлечимом» идеалисте и новом «лишнем человеке», выделяет такие черты этого типа в русской литературе: «Жизненная неустроенность, внутренняя дисгармония и столь же непоколебимое, сколь нереализованное стремление к высоким светлым деяниям – все эти черты присущи "лишним людям", своеобразным русским Дон Кихотам» (Вавжинчак. Там же. С. 78). Начнем, однако, с сумрачной стороны истории одного беглеца…
Действительно, автором точно замечено явление наших дней, которое можно назвать прямым следствием геростратства 90‐х, к подлинной демократии никакого отношения не имеющего. Заметим, что сам психолог Хромушин – бывший строитель «рая на земле», и именно по его наводкам проводилась искусная манипуляция массовым сознанием с учетом извечного российского долготерпения, милосердия по отношению не к падшим, но к жирующим во власти – «жалости к ним как страдальцам за народ… де, ну случилось не так, как подгадывали реформаторы, но никто вас не обманывал, ну получилась несостыковка, и вы, миленькие мои, потерпите сколько-нибудь…».
С ужасом оглядевшись вокруг, бывший автор реформ увидел «Россию, живущую по системе сбоев», олицетворение которой – телераёк с кукольными фигурками вождей и иже с ними, намертво замкнутыми в «ящике» псевдовремен. Не стоит забывать, что всё изображенное в этой резко критической книге показано глазами героя, человека отрицающего: повествование ведется от его «я», выносящего самые нелицеприятные оценки Системе, текущей политике, власть имущим, нынешней России и Западу, эмансипированным женщинам и безвольным мужчинам. Что это? Лик нынешнего нигилизма?
Разочарование реформатора в плодах собственных усилий закономерно. Перед ним – последствия реформаторского нигилизма, безжалостно разрушившего прежнюю систему в попытке создать иную, подлаженную под нужды новых властей. Но возникшая в результате химера – лишь звено в общей цепи исторических сбоев, которые изучает отошедший от дел профессор. По его логике вещей, новый сбой конца века закономерен – ведь создана еще одна «антисистема, отрицающая природу как мать родную». Исток нынешних российских неудач усматривается в прошлом стремительно раскрестьянившейся в ХХ веке, подавившей свое органическое развитие страны. И в этом автор целиком солидарен со своим героем.
Приведу, однако, размышления самого писателя – достаточно спорные в своей исторической части. По его мнению, «антисистема царствует на Руси с кончиною Ивана Грозного. Это последний великий князь, который противостоял конфликту "Человек – Земля", из последних сил замирял его, сообразуясь с религиозной нравственностью русского народа. В чем-то преуспел, силою уничтожив феодальную распрю и создав великое государство, но в чем-то и проиграл, ибо своей прозорливостью, своей высокой духовностью и множеством талантов, которые даровал ему Господь, возбудил к себе зависть и желание боярства вернуться к прежнему вотчинному владычеству. И это немирие к великому князю, убитому врагами, перешло на всю Русь, породило в ней долгую хворь, загнало державу в непонятное стремление поисков смысла нового жизнеустройства, ещё не готовую к коренным переменам государственных принципов.
Иван Грозный вызвал любопытство: а что будет, если мы прижмемся к лютеранам, католикам, к иудеям, к протестантам. Из этого любопытства захотелось изменить промыслительный коренной путь России. И в возникшем споре "антисистема" взяла верх над Матерью Сырой Землею. И случившийся раскол на Руси – следствие незатихающей борьбы, которую Иван Грозный притушил, но не вполне. После же его смерти схватка эта приняла самые жестокие, варварские по отношению к простецу-человеку свойства и методы. И это противостояние, увы, не затухает и поныне. Стяжательство и ростовщичество как новые формы существования России были узаконены уже при Петре; и делец, ростовщик, меняла и процентщик, сидящие на горбу мирового человечества, презирающие "почву", стали господами».
Жизненный итог бывшего советника президента в «Беглеце из рая» – отказ от изменения системы ради изменения человека: ведь реформаторство привело к катастрофическому расслоению гомо советикуса на «новых русских» и «новых нищих», к коим принадлежит и личутинский «человек в футляре»: «Я, безумный, захотел перековать Россию на новый лад и сам попал под безжалостный молот. Меня сплющило, перелицевало…»
Таковы изменения русского нигилизма – в сравнении с устремленными к переделке общества «новыми людьми» Чернышевского, тургеневским Базаровым. Нынешний нигилизм – и это точно подмечено Личутиным – занимает все более значительное место в национальном менталитете, обретая черты (нео)ницшеанства с его культом личности, а не общества. А ведь, кстати или некстати говоря, именно Ницше считал любое движение к демократии показателем упадка, победы усредненности и «стадных» чувств. В «Беглеце» ницшеанствующий герой, испивший горькую чашу власти, – прежде всего «людовед» и «душевед», изучающий человеческие типы и их место в Системе.
К чему же приводит эта тропа? В чем видит автор и герой спасение? В возвращении к жизни и любви – наперекор разочарованию, скепсису, (само)отрицанию. Старо как мир? Нет, скорее традиционно и попросту человечно. Проекция на реализацию сельской любовной идиллии в финале «Беглеца» воспринимается как восстановление звена «былой органической системы России… от которой мы отказались, уйдя в систему абсурда». Однако сбудется ли чаемое «беглецом», возможно ли для него возвращение в рай? Иль победит «зверь в душе»? Вопрос, открытый нам, читателям…
"Зверь в душе": О противоречивости русской души
Позитивную сторону в личутинском романе и в жизни составляет склонность русского человека к углубленной саморефлексии. По сути, весь роман об ученом-психологе и бывшем кремлевском советнике представляет собой тягучее, долгое раздумье о смысле происшедшего с нацией, личностью и страной. Многое в «Беглеце» связано с проникновением в архаику национального бессознательного, даже первобытных инстинктов – здесь чувствуются психологические интонации Э. Золя, в «Человеке-звере» и другой своей прозе сумевшего раскрыть тайники человеческой природы. Конечно, хоронящегося от мира отшельника назвать «зверем» никак нельзя – однако есть в его судьбе мистические странности, выводящие в центр читательской рефлексии такие извечные концепты русской трагедии, как «смерть», «убийство», «преступление». И весь роман предваряется выводом героя-психолога, за которым явно сквозит лик напряженно рефлектирующего автора: «Наверное, в каждом из нас, как в плотно запертом срубце, сидит медведь и ждет своего часа; но стоит лишь дать слабину, приотпахнуть кованую дверцу, приотпустить цепи, тут и заломает черт лохматый, подомнет под себя божью душу, выпустит дух вон, – столько и нажился».
Повествование открывается пророческим сном героя – «И вот нынче я убил человека»: сном, который сбывается в финале, предваряясь целой серией трагических утрат. И весь роман-размышление построен в весьма