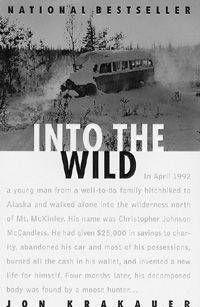Мы мигом скинули рюкзаки, вылезли из своих фетровых обмоток и прыгнули, оставшись в одних трусах, в ледяную воду. Казалось, в озере не было никаких рыб, никаких раков и вообще никакой жизни, даже водорослей – только студеная чистая вода. Плавая, мы могли видеть озеро насквозь, до самого дна.
Мы вновь и вновь ныряли, смеялись, брызгали друг на друга водой и оттирали светлым песком со дна озера ту корку, которая наросла на нашей коже за последние несколько недель. Это купание было подобно благовонному умащению. Я еще никогда не чувствовал себя таким чистым, таким очистившимся до самых потаенных глубин.
Когда мы поплыли назад к берегу, там стоял монах в темно-красном одеянии. Я сперва подумал, это тот самый свихнувшийся монах, которого мы встретили на прошлой неделе, и быстро нырнул под воду; но проводник вытащил меня наверх, ухватив за волосы, и сказал, что нет, это совсем не он, чтобы я сам посмотрел – этот гораздо моложе.
Мы, размотав рулон, вытерлись фетром, с наших бород стекала вода. Я дрожал. Моя кожа покраснела и горела от холода.
Пока мы опять обматывались полосками фетра, молодой монах подошел поближе, присел на корточки и стал внимательно изучать наши трусы, которые мы разложили на солнышке, на плоском камне, для просушки.
Мои трусы были от Brooks Brothers, клетчатые, в мадрасском стиле. Монах поднял их с камня и умоляюще посмотрел на меня. Я жестом дал понять, что буду рад, если он возьмет их себе. Монах улыбнулся, спрятал трусы в оранжевую сумку, которая висела у него на плече, и робкими шагами приблизился к нам.
Я закутался во все свои одежки и наконец, постепенно, вновь согрелся. Проводник достал газовую плитку и занялся приготовлением чая. У нас еще сохранилось немного сухого молока в пакете, и проводник высыпал эти остатки в чай.
Монах сел рядом со мной на камень, и мы вместе стали смотреть на гигантское озеро, а он в это время играл волосками на моем предплечье, дергал за них, как будто я был маленькой обезьяной. Он, смеясь, показал на собственное, совершенно безволосое плечо, потом опять перевел взгляд на озеро и замечательно похоже изобразил мычание коровы или быка.
Потом взял мою палку и из кошелька, спрятанного где-то в складках его робы, достал маленький ножик. Воткнув лезвие в острый конец палки, он начал что-то выпиливать, пока конец не оказался разделенным на три части; убедившись в качественности своей работы, он отдал палку мне.
И принялся безостановочно что-то говорить, но на языке, который был совершенно непонятен как для меня, так и для моего проводника; объясняться с ним мы могли только жестами или на пальцах.
Пока мы пили чай, он окунал палец в свою чашку и потом, с преувеличенным выражением удовольствия на лице, облизывал. Капли светло-коричневой жидкости стекали по его подбородку.
Я между тем трехзубым концом своей палки нарисовал на песке у наших ног контур горы. Маленький монах присел на корточки и стал внимательно вглядываться в изображение, но так и не понял, что я нарисовал, хотя наморщил свой лоб глубокими складками и наклонял голову то вправо, то влево.
Я подумал, что в этих пустынных местах вряд ли найдется много разных вещей, которые имели бы сужающийся кверху силуэт; но, похоже, монах и вправду не мог уловить ни малейшей взаимосвязи между моим наброском горы и той реальной горой, которую я искал. Я вновь и вновь стирал рисунок на песке носком моего треснувшего ботинка от Берлути и начинал все заново – рисовал другую гору, другую форму горы, гору с несколькими вершинами, рисовал даже людей, совершающих обход вокруг горы по часовой стрелке, – но ничто не помогало: монах не понимал, что я имею в виду.
Мы выпили вместе с ним еще по чашке чая, потом замотали головы шарфами и взвалили на спины рюкзаки. Проводник пошел впереди, влево вдоль берега озера, я же потопал за ним, сразу и почти автоматически попав в ритм, которого мы придерживались уже столько недель. Я оглянулся через плечо и увидел, что молодой монах следует за нами, держась в некотором отдалении.
Озеро казалось нескончаемо длинным, но не особенно широким; прищурив глаза, я ясно различал на горизонте другой берег. Здесь не было никаких птиц, которые летали бы над водой или гнездились на берегу; никаких кустарников, деревьев или рыб; вообще ничего живого, кроме нас – троих мужчин, спешащих друг за другом и при этом сохраняющих некоторую дистанцию.
Солнце спускалось все ниже, мы продолжали свой путь еще час или два; к тому времени, как я догнал проводника, он уже успел поставить палатку. Молодой монах тоже вскоре появился, присел на корточки рядом с нами. У меня оставалось еще сколько-то иранских сигарет, мы втроем молча курили перед палаткой, пока сигареты не кончились, и при этом смотрели на темнеющее озеро.
Свет делался все более мягким, и справа от нас, на востоке, озеро постепенно меняло свою окраску от бирюзовой, через все промежуточные оттенки, до – когда солнце наконец исчезло на горизонте – пурпурной. Вдалеке опять висело единственное маленькое облачко, на правом краю которого еще горел последний оранжевый отблеск уходящего дня.
Поскольку три человека в палатке не умещались, мы жестами объяснили монаху, что он может залезть внутрь только по пояс, а ноги должен оставить снаружи. Мы трое улеглись голова к голове. Устроившись поудобнее, монах принялся тихонько напевать, это была мелодия без смысла, гармонии и ритма, и я подумал, что она наверняка понравилась бы Кристоферу, – с этой мыслью я и заснул, ощущение соприкосновения с чистым, студеным озером все еще витало вокруг меня, я чувствовал его кожей, оно присутствовало даже внутри моих костей.
Утром я проснулся с уверенностью, что день будет хорошим. Я еще довольно долго лежал, не двигаясь, под фетровым одеялом, хотя мне очень хотелось помочиться, и вслушивался в ровное дыхание двух спавших рядом мужчин.
Монах во сне обхватил меня рукой и держал крепко; я все не решался высвободиться из его клинча. Во сне он причмокивал губами и дважды произнес слова Body Shattva, которые для меня ничего не значили. Наконец я приподнял его руку и очень осторожно отодвинул ее от себя. Полог входного отверстия палатки застегивался на костяную пуговицу; я расстегнул ее, медленно переступил через лежащих и выполз наружу.
Чтобы размяться, я поднял руки вверх и потом, наклонившись, коснулся пальцев ног. Воздух был прозрачным и холодным, солнце еще не взошло, но я уже предчувствовал, что оно вот-вот появится с левой стороны, светлая полоса расширялась над землей, и пока я мочился за выступом скалы, наступил день.
Я поднял глаза. Километрах в десяти от меня показалась гора, ее правый бок розовел в утренних лучах солнца. Я подтянул штаны. Вчера вечером ее не было видно, хотя здесь вверху, на плоскогорье, никакого тумана не бывает. А теперь на тебе – она здесь. Она имела совершенную, радикальную форму горы, выглядела еще гористее, чем Маттерхорн.[44]На ее вершине, спускаясь примерно до середины высоты, лежала сверкающая шапка белого снега.