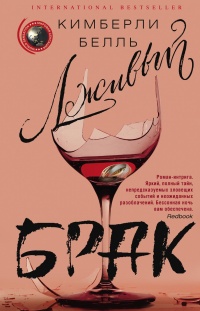болотной фермы, которая сконцентрирована в нижней части моего живота. Нигде больше нет силы, которая могла бы сравниться с ней, силы этого ребенка, пробивающего себе путь в мир, разрывающего меня, продвигающегося ниже.
Мои крики отдаляются от меня самой. Не знаю, из-за таблеток или еще из-за чего. Я слышу их прежде, чем издаю, крики, способные свергнуть горы. Я кричу, отплевываюсь, тужусь, стискиваю зубы и вгрызаюсь в его прогорклый кожаный ремень.
– Головка появилась, – произносит Ленн.
Я тянусь вниз и касаюсь лица ребенка, его носа, передней части головы. Мой рот расплывается в улыбке. Подушечки пальцев нащупывают мягонькую кожу под подбородком ребенка. Я останавливаюсь, смотрю вниз, вижу черные волосы, тонкие, мокрые, матовые, окровавленные.
Еще один толчок, затем два. Снова. Веки плотно сомкнуты. Вскрикиваю, и его ремень выпадает из моего рта, а ребенок выскальзывает из меня, и я мысленно вижу олененка в лесу, когда наклоняюсь вперед, чтобы прикоснуться к малышу; мать-олениха, рожающая олененка в тихой заповедной лощине.
Я тянусь, чтобы взять ребенка, но Ленн хватает его первым.
– Не дышит детеныш! – вскрикивает он.
Я ору и пинаюсь своей здоровой ногой, и Ленн отдает мне ребенка, словно освежеванного зайца. Я забираю теплого малыша и поворачиваю его лицом к себе. Ее.
– Девка, – фыркает Ленн.
Я подбираю пальцем жидкость из ее идеального рта, с ее красных губ и поворачиваю, словно по команде какого-то древнего порыва, который я не подвергаю сомнению, и шлепаю по спине, глажу ее, пока она не начинает кричать. Затем прижимаю ее к себе и улыбаюсь самой широкой улыбкой. Мы лежим вместе, только я и малышка. Вместе.
– Девка родилась, говорю, – слышу его голос.
Я киваю и глажу ее крошечную головку, трогаю мочки ушей, крохотные жемчужины, и начинаю кормить грудью. Малышка не берет грудь сразу, так что я поправляю ее голову, пока она ищет меня своими алыми губами, а потом наконец находит.
– Сейчас одеяло ей принесу.
Он поднимается наверх, и мы остаемся одни. Не возвращайся, Ленн. Оставь нас.
Она пьет из меня. Я никогда не делала этого прежде, но мне кажется, что делала; она пьет и сосет из моего тела, и вместе нам тепло.
Он возвращается вниз.
– Сейчас еще полезет, – произносит Ленн.
Я смотрю на веки и нос своей дочери. Ее веки словно лепестки. Нос совершенен, будто камень, отшлифованный рекой. Она самая маленькая и самая сильная из всех, кого я когда-либо видела, и в тот момент, когда я держу ее на этом зеленом брезенте, я отдаю ей свое тело целиком. И свою душу тоже. Навеки. Я обещаю, без раздумий и слов, что буду ее матерью и ее отцом, ее братьями и сестрами, бабушками и дедушками, соседями, я буду ее учителем и ее священником и не позволю, чтобы к ней пришло зло. Я не допущу этого.
– Назовем Мэри, – говорит Ленн.
Он не один из нас. Он не живет в нашем мире или в какой-то его части. Может, для него тебя и зовут Мэри, но я придумаю для тебя подходящее имя, пока он будет пахать свои плоские поля, когда я изучу каждую твою пору и буду наблюдать за тобой, пока у меня не пересохнут глаза.
Я подтягиваю одеяло к себе и накрываю ее спину. Мы с ней одно целое.
Глава 11
Малышка спит.
Я лежу на односпальной кровати в маленькой спальне, полотенце обернуто вокруг моей талии, одеяло двойной толщины накинуто малышке на спину, а она спит впервые в жизни. Я чувствую ее дыхание на своей коже, каждый выдох – подарок ее безупречных легких. Ее сердце бьется быстро. Быстрее, чем я думала. Она маленькая, будто птичка, но такая совершенная, как все, что я когда-либо видела или представляла. Она чудесна.
Когда она просыпается, я несу ее (малышка весит меньше котенка) к шкафу и достаю стопку махровых пеленок, которые использую как гигиенические салфетки, старые тряпки его матери. Я должна была подготовить их, но она появилась слишком рано. Складываю их у обогревателя, укладываю дочку в гнездо из подушек, которое я соорудила на кровати, сворачиваю одну пеленку так, как делала это сотни раз за последние семь лет, и засовываю ее внутрь своего нижнего белья, белья его матери. Затем беру другую, складываю так же и оборачиваю ее на талии, на талии моей дочери, и она спит и выглядит такой крошечной. Она такая идеальная. Я не могу перестать улыбаться. Моя лодыжка ноет, но сердце раздувается от гордости за то, что я сама создала этого человечка и вывела его в мир, и за то, что сама его кормлю, и за то, что она так мирно спит, словно родилась в нормальном доме, в вашем, например.
Я ложусь рядом с дочкой и сворачиваюсь вокруг нее. Она издает звуки. Безопасные звуки. Довольные звуки. Мой живот все еще огромный, словно я вообще не рожала, но теперь он мягкий. У моей мамы были разрывы, когда она меня рожала, она мне рассказывала, и у нее были разрывы, когда она рожала мою сестру, и я думала, что со мной будет так же. Но, похоже, со мной все в порядке. Нежность и онемение, таблетки делают свою работу, но я в порядке.
– Все, закончил бурить! – вопит Ленн, входя в дом. – Треклятые птицы, никак в покое не оставят, что-то с ними не так, точно говорю.
Я плотнее сворачиваюсь вокруг малышки, моя спина словно стена между ним и ею.
– Пирог-то будет или что?
Я молчу. Просто смотрю на то, как дочка спит, как поднимается и опускается ее грудь, как слегка приоткрываются ее губы, как втягивается и выходит воздух, как у воробушка. Ленн поднимается по лестнице в нашу маленькую заднюю спальню. Ступени сначала скрипят, а потом прекращают. Он стоит у меня за спиной и наблюдает. Наблюдает за нами, не только за мной – она теперь живет под его крышей, с его вещами, по его правилам.
– Ты пирогом займешься?
Я закрываю глаза, чувствую ее прохладные ноги на своем животе, ее щеку рядом с кончиком моего носа и притворяюсь, что крепко сплю. Он наблюдает за нами. Он остается, но не пытается нас разбудить, просто наблюдает. А потом спускается обратно.
Я могла бы лежать здесь с ней сотни жизней. В ней нет ничего от него, в ней есть только добро, я знаю это всей душой, она пробыла на свете всего полдня. Я знаю это. Малышка морщит нос, и