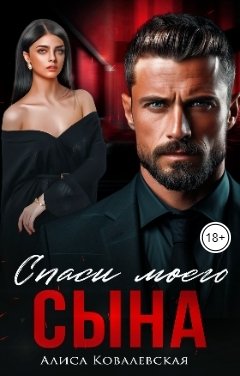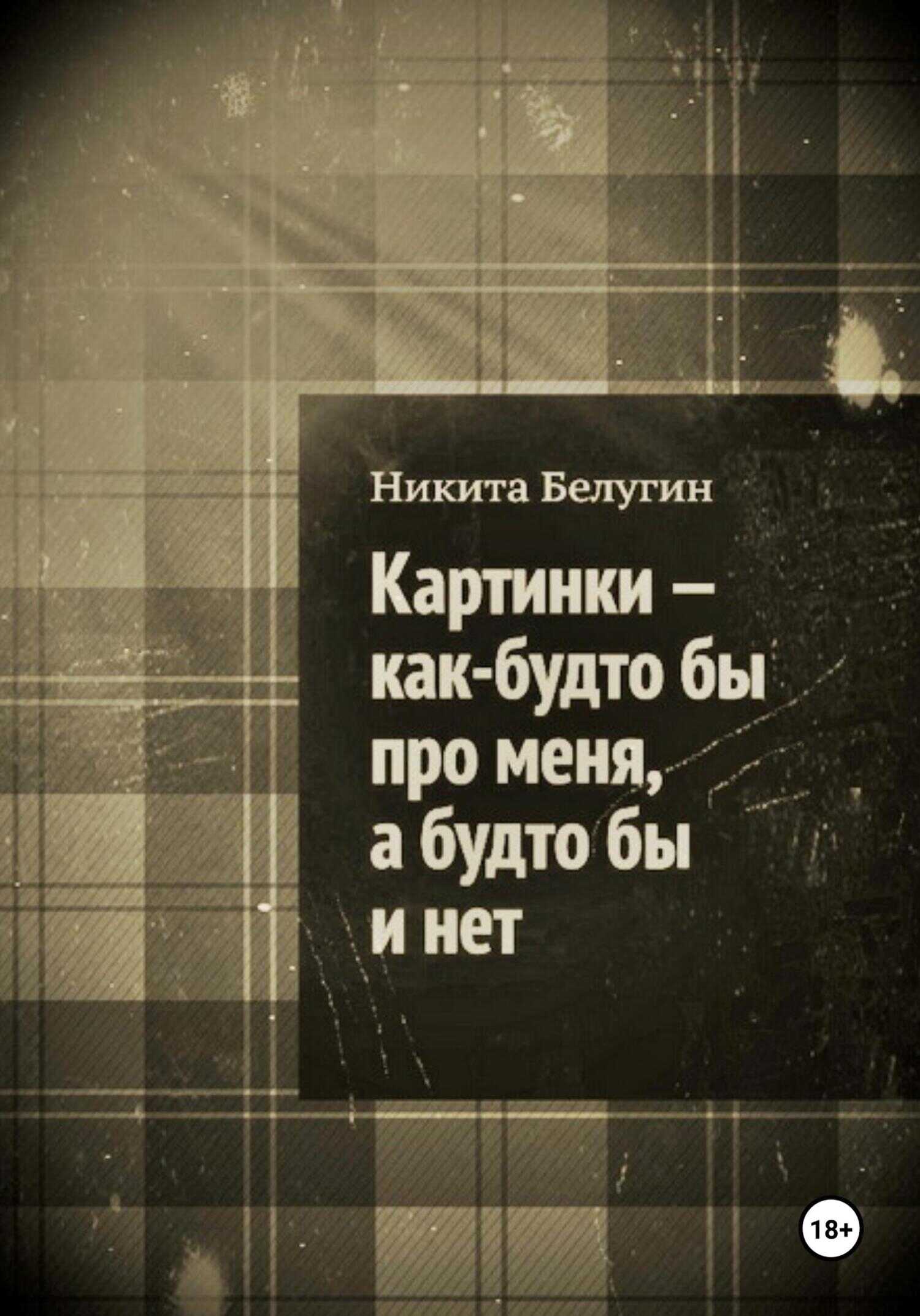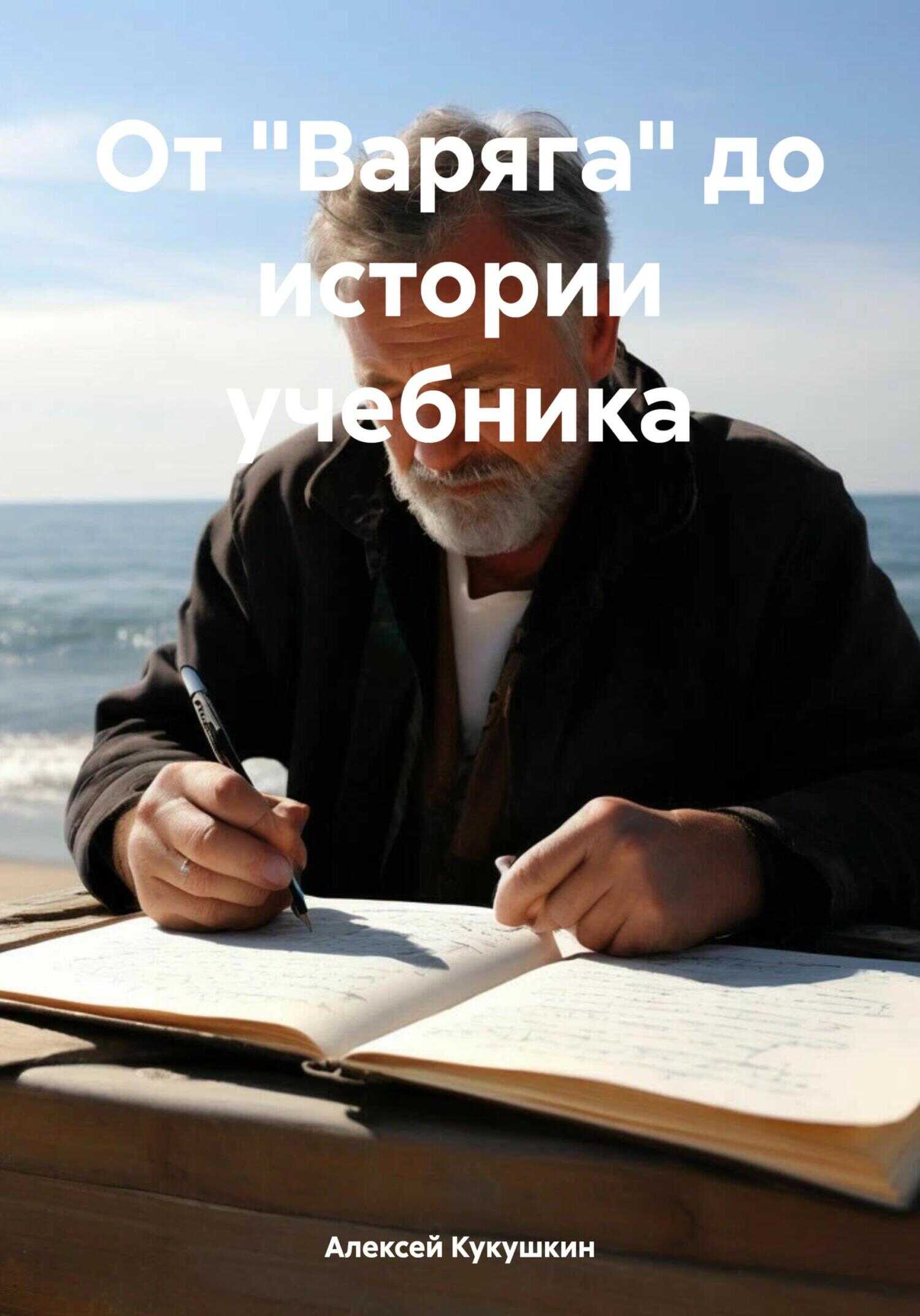оккупацией голодные люди склад разграбили. Накануне второй он сгорел. При немцах открылось много разных магазинчиков, мелких частных предприятий. На бывшей главной улице Энгельса открылся, например, антикварный магазин, и я любил в него ходить и смотреть вещи и картины. Мать устроилась уборщицей в парикмахерскую «только для немцев», кстати, недалеко от любимого моего магазина. Она, когда стало ясно, что я должен ехать в Германию, хотела ехать со мной — отец с сыном, мать с дочкой, иногда по несколько человек родных ехало туда — но подумали мы крепко и решили, что мать должна остаться и сохранить квартиру.
* * *
Конечно, когда решилось, что мне ехать туда, была надежда. О, много разного думалось! Но уже небольшие двухосные грузовые вагоны, куда нас набивали по шестьдесят человек, — это была пытка. Сидеть мог далеко не каждый. И все же, когда немного осмотрелись, попривыкли, когда стало ясно, что как-нибудь доедем, вагон разразился проклятьями. О, сколько выкладывалось фактов бесчеловечного отношения власти к людям! Война, полное разрушение страны были последним наказанием за несправедливости: и вот и народ погубили и сами гибнут.
Еще в первые дни я ходил смотреть на призывников. Сценки там бывали поразительные. Смотрел я и на то, как из штатских делают солдат. То есть раздевают, ведут из одного помещения голых в баню, а потом уже вымывшихся еще в одно помещение, и уже оттуда они появляются в солдатском. Так вот, глядя на обреченную цепочку фигур, я тогда придумал картину «Война». И даже палочкой пробовал рисовать на земле голые нескладные фигурки, с руками, прикрывающими срамное место. В вагоне я услышал от недавних солдат, что было дальше с этими переодетыми. О! Был такой рассказ. Переодели в галифе и гимнастерки. И даже без фуражек, стриженных наголо, в своей обуви, ночью послали через реку брать село, полное немцев. Без оружия послали, с палками, лопатами, камнями: в бою и оружие и обувь захватите…
Нас сопровождали немцы-фронтовики, они ехали в отпуск к своим немкам и немчатам — тоже и это была пощечина, у нас разве обыкновенному солдату дадут отпуск? Сначала вагоны заперли, потому что очень уж набили, кое-кто мог не только тесноты не выдержать, а попросту вывалиться. Но километров через двести открыли, и дальше уж мы были вольны бежать, но никто этого не делал. На протяжении всего пути, особенно на станциях, мы видели тысячи наших военнопленных, голодные, разутые, раздетые, они вяло копошились в развалинах станций и вдоль всего пути. Вид у многих был обреченный. Страшно было подумать, что их ждет, когда наступят холода. И несмотря на это, не жажду мести испытывали мы, а ненависть к тем, кто это допустил. «Ребята, немцы все знали про нас, потому и не побоялись. Они все-все учли!»
* * *
В вагоне я ехал едва ли не лучше всех. Потому что меня полюбили ребята из 56-й армии, которая прикрывала отход наших войск через Ростов, многие были ростовчане, остались дома и теперь ехали в Германию. Они держались вместе, чемоданы их были сложены в один высокий штабель, а меня, чтоб не занимал места на полу, посадили сверху, и оттуда мог слышать и наблюдать все, происходившее в вагоне. Одни сразу сделались шутами, добровольцами или из-за того, что никто не хотел принимать их всерьез, другие казались слишком испуганными и податливыми, третьи раздражали осторожностью, четвертые глупостью.
Глупость была самая разнообразная. Вообще, как я заметил, глупость больше всех других качеств делает нашу жизнь разнообразной. Особые права были у картежников. Несмотря на тесноту, они сумели расчистить круг и сидели в нем довольно свободно. Рискующие проиграть последнее, они как бы имели право на большее, чем остальные. К тому же игра захватывала не только их — она была и маленьким представлением для вагона. Уже в поезде я почувствовал сильнейшее раскаяние о своей прошлой жизни. Я молился. Господи, спаси и помилуй. Помоги пережить это. И уж после этого я буду самым верным сыном своей матери, послушным учеником, хорошим товарищем… До чего все стало ясно!
Потом начались муки голода, и… самое страшное — кошмар неизвестности. Всякое рабство, по-видимому, постигается много лет спустя, а действительность раба есть кошмар неизвестности. Куда нас везут? Что с нами сделают? И потом, когда привозят, неизвестность только усиливается. И, начав работать, вы ничего не знаете о конце…
Первая остановка была в Западной Украине. Здесь, в первом своем лагере, мы наелись. Мои друзья, ребята из 56-й, давно поглядывали на оклунки деревенских. И вот голодные лагерники стали просить у нас чего поесть, объясняя, что все равно здесь никто из вновь прибывших ничего сохранить не может — их вещи, в том числе еда, проходят через санпропускник, через горячую камеру, и обрабатываются химическим раствором, чтоб из Азии в Европу никто паразитов не занес. Деревенские и после этого пытались удержать свое, но тут их попросту ограбили: «Чего жмете? Не поделитесь — не обижайтесь!» Потом нам велели раздеться догола, ввели в высоченный барак с водопроводными трубами над головой, включили воду. А уже начало октября, вода из рассеивателей ледяная. Столпились у входа, никто мыться не хочет. И вдруг откуда-то из-под потолка на нас начинает сыпаться жидкая известь. Глянули, а там антресоли, железная бочка и старик, который черпаком известь черпает и нас посыпает. Естественно, бросаемся под душ.
Чем дальше, тем больше голод овладевал нашими помыслами. Снова нас везли. Была какая-то долгая стоянка. Я сидел в проеме раскрытой двери, свесив ноги вниз. И вдруг увидел на насыпи разбитую банку с джемом. В голове лихорадка. Спрыгнуть и подобрать! Но, во-первых, охрана стреляет без предупреждений, во-вторых, джем ведь со стеклами перемешался. Пока я думал, поезд потихоньку тронулся. И тогда я падаю на джем, хапаю, хапаю в рот вместе со стеклами, а потом остатки с кремнями и мазутом бросаю своим ребятам, и уже на ходу меня втаскивают всего грязного, и мои руки, лицо, одежду весь вагон готов облизать, но достаюсь я самым близким.
Во втором лагере нас опять догола раздели. В ка-ком-то здании на втором этаже проходили медкомиссию. Один из наших глянул в раскрытое окно и ахнул — там огород, и баба собирает в корзины морковку, бурак. Как начали мы прыгать голые, хватать морковку, бурак, капусту… С великим трудом нас усмирили. Комиссия была, конечно, поверхностным осмотром. Чесоточного среди нас нашли, в сторону велели отойти. Мы уже были наслышаны о лагерях уничтожения, больным никто не хотел быть, и этот