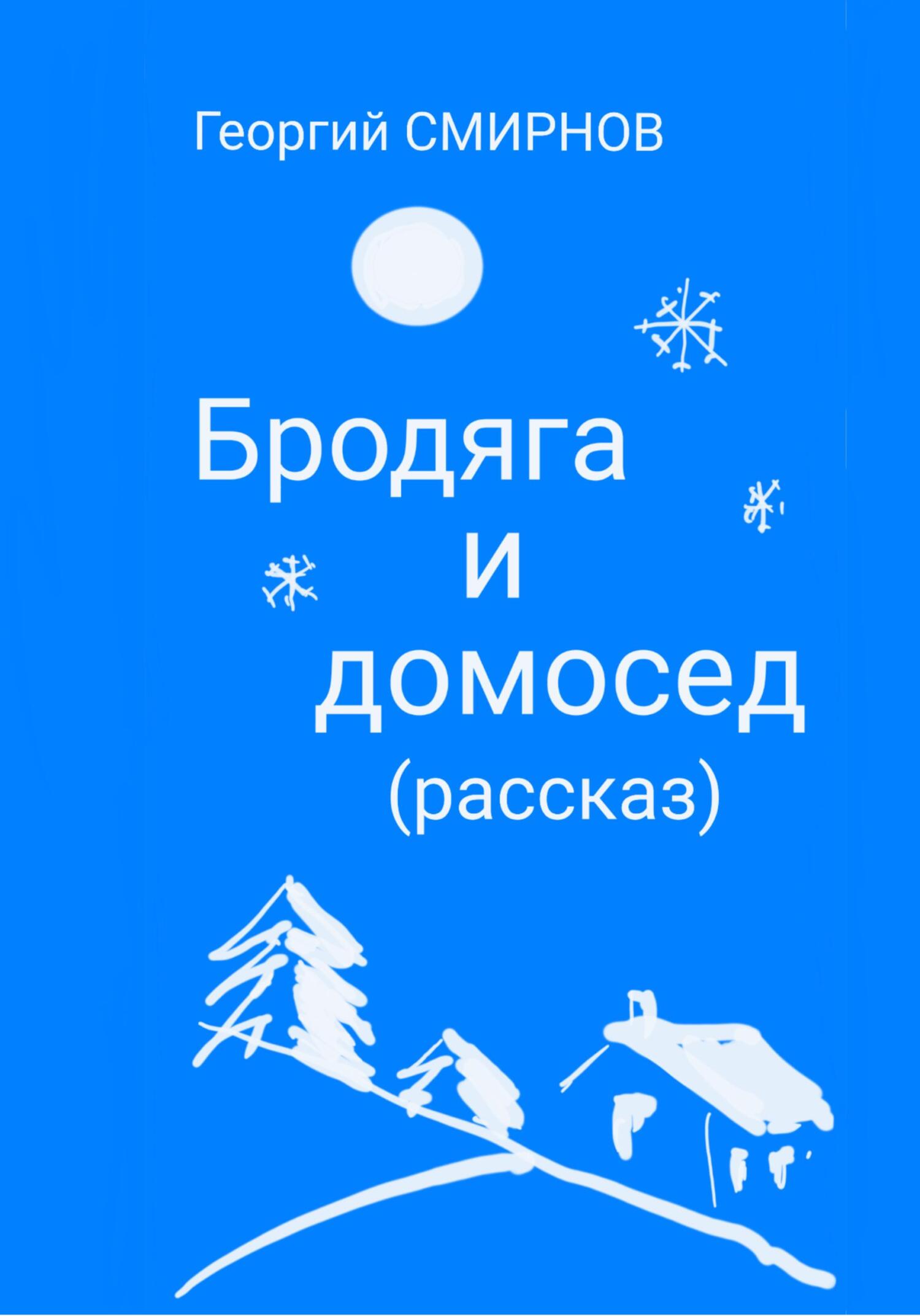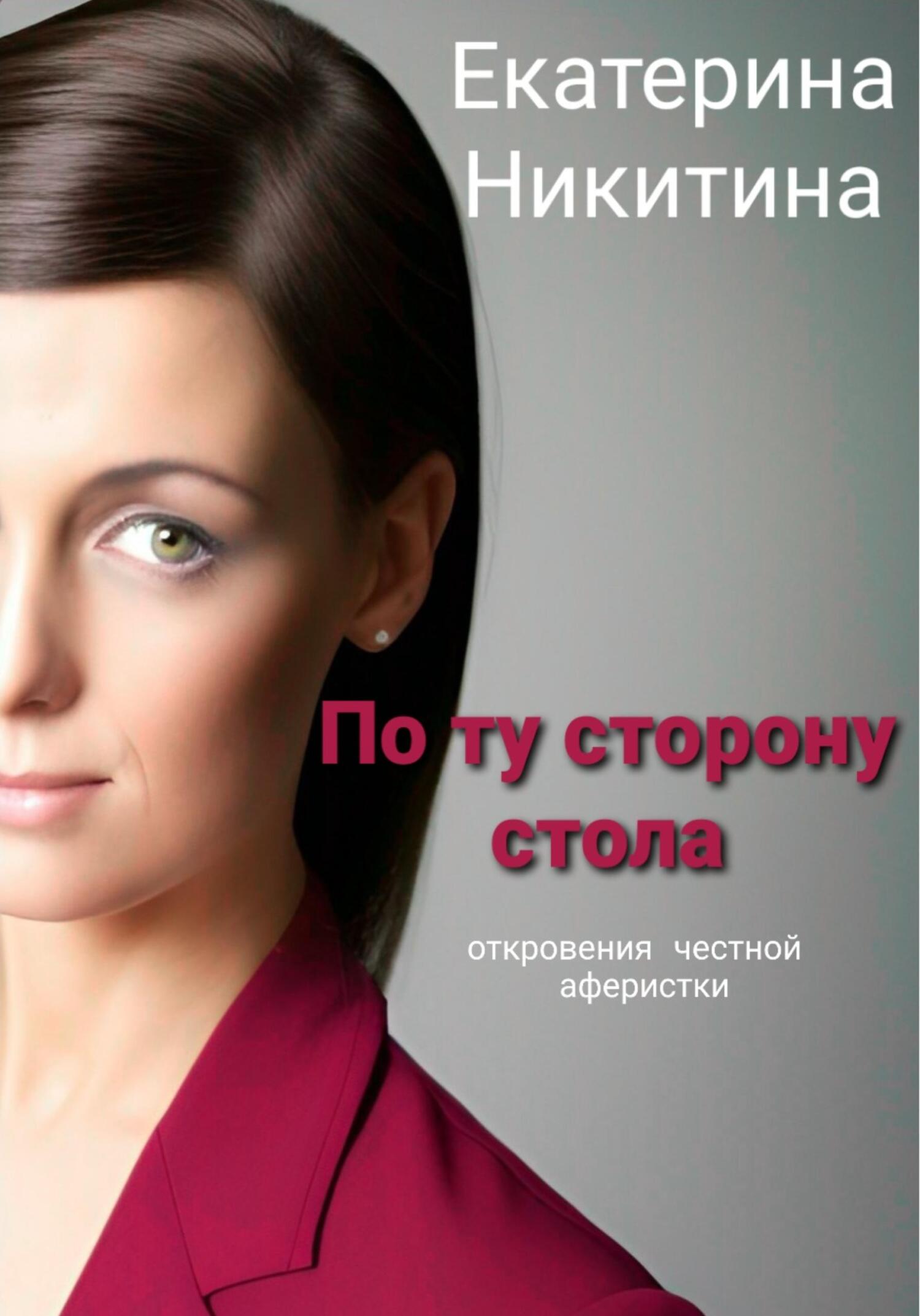к школе, оглядывалась и торопливо барабанила в дверь.
— Знова я к тебе явилась… И скоро ты меня прогонишь, Вася?
Василий Дмитрич улыбался, брал ее тихо за руку и пропускал впереди себя, словно невесту.
Дома к ее отлучкам привыкли издавна и не удивлялись, удивлялся как раз завфермами, толстый и добродушный Кузьма Иванович, чего это Степановна стала торопиться домой, а потом решил, ничего особого тут нету: что за интерес ей теперь дневать и ночевать в коровнике, когда все равно ее профессии скоро крышка.
Она сказала деду Панкрату, что, наверное, уйдет с фермы, но неопределенно, будто еще не все решено, и дед, поохав, утешил внучку, что с ее характером она и на конопле нахватает разных дипломов и почетных грамот. Он сызмала привык к тому, что в крестьянстве нет плохих или хороших работ, все одинаково почетны и все надо уметь делать.
До этого Глаша не отличалась особым пристрастием к книгам, разве полистает какую, что принесет Наташка из библиотеки. Теперь же приходилось не только листать страницы, но и сидеть над ними, пытаясь одолеть непонятное.
— Про коноплю читаю, деду, — сообщала Глаша, чтобы отвести вопросы.
— Ну, ну, читай, набирайся уму-разуму…
И от Наташки-дочки тоже таилась Степановна, чуть услышит, как простучали ее каблучки по доске, испугается, торопливо спрячет учебник и примется за другое.
Делала она это безотчетно, повинуясь чувству самозащиты, не хотелось ей выносить на улицу свое заветное, трезвонить раньше срока. «Не получится у меня с занятиями — что ж, брошу, — думала Степановна, — и никто, кроме Васи, ничего не узнает, и никто не скажет, что осрамилась на весь район Глашка Сахнова. Пойду на коноплю, и делу конец».
Накануне Василий Дмитрич рассказывал ей про электрическое сопротивление, а на дом задал повторить главку из учебника да еще решить задачку. Задачку Глаша решила рано утром, когда все спали, а главку из учебника читала позднее, стоя возле печки; таскала ухватом тяжелый чугун с картошкой для поросенка, обкладывала жаром горшки с борщом да кашей, а между делом заглядывала в раскрытый учебник, что лежал рядом на табуретке.
За этим ее и застала Наташка.
Увлекшись, Степановна не услышала, как звякнула калитка и в дом вбежала дочка.
— На минутку… Переменка у нас… А где дед?.. Есть хочу — просто ужас!
Она с ходу бросилась к этажерке и начала разбрасывать книги, разыскивая нужную.
— Мам, не видела, где моя физика? Прямо не знаю, что такое, каждый раз пропадает.
— А ты погляди лучшей. На табуретке что лежит? — Степановна сделала вид, что выговаривает рассеянной дочке.
— На табуретке?.. Как она сюда попала?.. Ой, опоздаю!
Наташка схватила учебник, отрезала краюху хлеба, запихнула в рот добрый кус и умчалась.
Вечером, подходя к школе, Степановна вспомнила об этом и улыбнулась сама себе.
— Чуть не попалась я нонче, Вася, — добродушно призналась она Василию Дмитричу.
— Что же случилось, Глаша, рассказывай.
Василий Дмитрич всегда был с ней ровен, спокоен, может быть, за это и променяла она его на порывистого, не терявшегося Игната, но теперь эта черта характера Василия Дмитрича нравилась ей, пожалуй, больше всего. Ей нравилось, как спокойно, даже с легкой грустью, брал он ее за руку и вел к письменному столу, где уже стояли принесенные из физического кабинета разные приборы, как, улыбаясь, оглядывал ее всю, стараясь узнать, какое у нее настроение, а потом одобрял то безмолвным взглядом, то словом, нравилось, как терпеливо, по нескольку раз повторял одно и то же, пока не расправлялись на Глашином лбу морщинки и не светлели глаза.
— Так что же случилось, Глаша?
— Наташка сегодня чуть не застукала меня.
И она рассказала, как все произошло и какую она проявила находчивость, свалив вину с больной головы на здоровую.
— Ловкая ты у меня, — похвалил Василий Дмитрич шутливо.
— Не у тебя покамест, — поправила Глаша.
Василий Дмитрич вздохнул:
— Да, ты права… Конечно, не у меня.
Он все еще любил ее спокойной, задумчивой любовью, той любовью, которая если и не доставляет огромных радостей, услады, то и не приносит сильных огорчений, а тем более беды. Все это уже было позади — и потрясения и горе, все прошумело наподобие вешней воды, и осталась теперь только неясная грусть, нежность, тихая любовь — притаились где-то в закутках большого Васиного сердца.
Он встал, прошелся взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, как делал это ежедневно в классе, посмотрел внимательно на Глашу и улыбнулся.
— Дети, на чем мы вчера с вами остановились?
…Так и катилось время — с апреля в май, с мая — в жаркое, душное лето.
4
Пять лет назад Наташка еще не была такой гуленой, ветреницей, а все больше домовничала, сидела у деда на печи, а вечерами долго смотрела в темное окошко — не покажется ли мать. Так она и засыпала на лавке, закутавшись в старый вязаный платок.
В конце концов Наташке наскучило все вечера проводить в ожидании, и она стала бегать к соседям, подружилась с непоседой Нюркой и, как говорил дед Панкрат, отбилась от дому. В шестом классе начались секреты, записки таинственного происхождения, в седьмом — какой-то свой выдуманный язык — слов двадцать, с помощью которого она умудрялась объясняться с Нюркой, в восьмом — танцы под радиолу, а по торжественным дням — и под гармонь в сельском доме культуры.
Сегодня тоже намечались танцы. Наташка распахнула дверцу шкафа, поискать, нет ли там свежей кофточки, перевернула все вверх дном, но не нашла и стала докучать деду, не знает ли он, где ее кофточка. Дед оставил свои лапти и тоже начал без толку ходить по хате, искать Наташкину пропажу, а потом вспомнил, что Глаша на той неделе стирала белье, но не успела погладить.
— Как мне, так никогда ничего, — буркнула Наташка.
Она разложила на столе ветхое одеяльце, включила утюг, а потом на минутку — пока нагреется — забежала по соседству к Нюрке. Об утюге Наташка вспомнила, наверное, через полчаса, крикнула: «Ой, Нюрка, утюг!..» — и сорвалась с места.
Утюг, «или что там такое», конечно, перегорел, Наташка со злости свистнула, швырнула одеяльце деду на печку, а сама помчалась к Володьке Пестуну: к нему все бегали, ежели что требовалось по электрической части.
Пестун в таких случаях всегда важничал, он любил, чтобы его хорошенько попросили, походили вокруг да около, а он тем временем грыз бы семечки и спрашивал с нагловатой наивностью:
— А что я буду с этого иметь?
— Как что? Спасибо