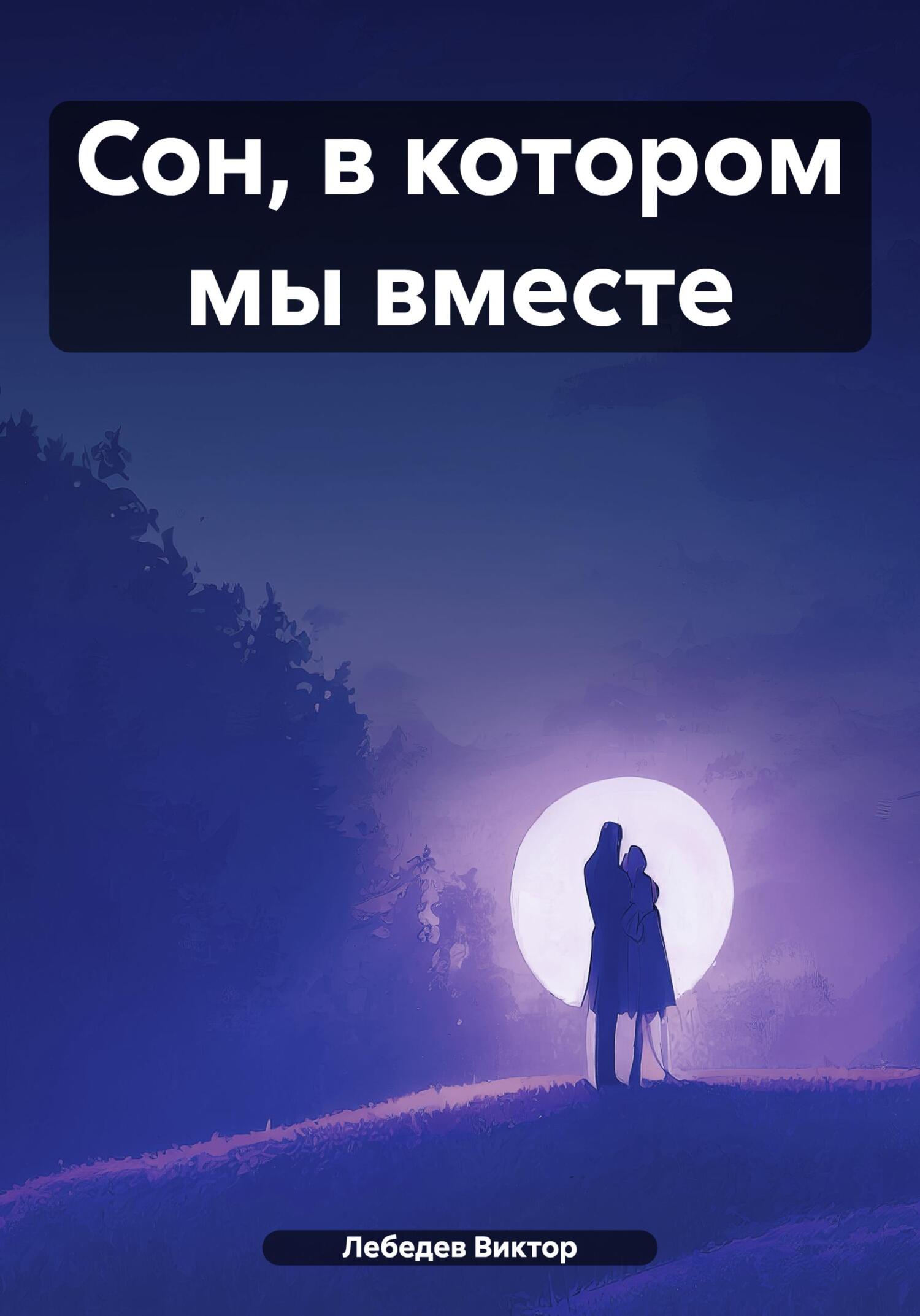доктором Симом. Доктор Сим тихо, но очень зло сказал, что сильно жалеет, что с самого начала не запретил профессору обращаться ко мне с какими-то просьбами. Кроме того, со стороны школы тоже было вынесено предупреждение о том, что если Гон в дальнейшем не изменит свое поведение, то им ничего не останется, как поставить вопрос о переводе его в другую школу. Профессор стоял и слушал все это с поникшей головой.
Пару дней спустя мы с Гоном сидели за одним столиком в пиццерии. Его глаза уже не горели таким раскаленным пламенем, как раньше. Возможно, потому что рядом находился отец.
Только потом я узнал, что, когда профессору сообщили о выходке Гона, он впервые поднял на него руку. Профессор Юн был интеллигентом, поэтому все обошлось тем, что он запустил в стену чашку, которую держал в руке, достал розги и пару раз хлестанул ими Гона. Тем не менее это оставило пятно на его репутации приличного человека, которым он себя считал и образ которого старательно поддерживал. И, конечно, еще больше осложнило и без того непростые отношения с сыном.
Каково это, когда тебя наказывает твой настоящий отец, которого ты не видел больше десятка лет? Когда вы еще не успели узнать друг друга, сойтись…
По словам доктора Сима, профессор Юн — человек очень принципиальный. Главным кредо всей его жизни было «не причиняй вреда другим», и, конечно же, он не мог стерпеть, что его внезапно вернувшийся сын, его родная плоть и кровь, постоянно нарушает этот принцип. При этом он даже не столько сожалел, сколько злился, что «у меня вот такой сын». А он еще так долго его искал! Поэтому реакцией профессора на случившееся и стало то, что Гона он выпорол, а перед другими только и делал, что беспрестанно извинялся: извинялся перед учителями, извинялся перед одноклассниками, извинялся передо мной.
И то, что мы сидели сейчас с Гоном за одним столом и заказали самую дорогую пиццу, — это тоже было своего рода извинением. Смиренно положив ладони на колени, профессор специально громким голосом, словно с расчетом на Гона, как заведенный повторял одно и то же:
— Приношу свои извинения за случившееся. Это все моя вина. — Голос его дрожал, он даже избегал смотреть мне в лицо.
Я по чуть-чуть потягивал колу через соломинку. Казалось, слова будут литься из него бесконечно. Чем дольше он извинялся, тем жестче становилось лицо Гона. У меня от голода урчало в животе, а прямо перед носом лежала пицца, без толку остывая и становясь сухой.
— Перестаньте, пожалуйста. Вам нет нужды извиняться передо мной, я пришел сюда не за этим. Это Гон должен извиниться, а для этого нам лучше остаться вдвоем.
Профессор уставился на меня широко раскрытыми глазами, что должно было означать удивление. Гон тоже резко вскинул взгляд.
— Ты уверен?
— Да. Если что, я вас наберу.
Гон хмыкнул себе под нос. Профессор пару раз покхекал, прокашлялся и наконец грузно поднялся.
— Юн Чжэ, я уверен, что Ли Су очень раскаивается.
— Он и сам может об этом сказать.
— Ну что ж… Тогда приятного аппетита. Если что, звони.
— Хорошо.
Перед уходом он тяжело придавил рукой плечо сына. Гон не стал уклоняться, но, как только профессор отошел на пару шагов, отряхнул рукав, словно от грязи.
35
Кола в стакане бурлила и громко булькала — это Гон выдувал через трубочку пузыри. На меня он не смотрел, отвернулся к окну. За окном ничего интересного не происходило: лишь изредка могла проехать какая-нибудь машина. Зато перед окном поблескивала серебристым светом металлическая перечница из нержавейки. На ее изогнутой поверхности, как в широкоугольном объективе, отражался весь интерьер пиццерии, в самом центре которого было мое лицо: все в синяках, ссадинах и кровоподтеках, как у боксера после неудачного матча. Гон тоже смотрел на мое отражение. Наши взгляды встретились на перечнице.
— Ну и рожа у тебя!
— Тебе спасибо.
— Думаешь, буду перед тобой извиняться?
— Будешь или не будешь — мне все равно.
— Зачем же тогда просил оставить нас вдвоем?
— Твой отец болтал слишком много. А я хотел побыть в тишине.
От этих слов Гон снова хмыкнул: такой звук бывает, когда смех хотят скрыть кашлем.
— Слышал, тебя выпороли. — Я не знал, с чего начать, поэтому сказал первое, что пришло в голову. Видимо, это была не совсем удачная тема для затравки беседы. Зрачки у Гона тут же гневно расширились.
— От кого слышал?
— От твоего отца. Он сам мне рассказал.
— Захлопни пасть, урод! У меня нет отца!
— Даже если тебе это не нравится, он твоим отцом быть не перестанет.
— Я тебе говорю, пасть закрой, гнида! А не то совсем урою! — Гон в ярости схватил перечницу и сжал ее с такой силой, что аж ногти побелели.
— Что, здесь тоже хочешь разборки устроить?
— А почему бы и нет?
— Да нет, я просто спросил. Хотелось бы заранее узнать, чтоб я тоже мог подготовиться.
Похоже, Гон успокоился: он придвинул стоящий на столе стакан с колой к себе. Снова послышалось бульканье. Я вслед за ним тоже начал пускать пузырьки. Гон отрезал себе пиццы, откусил кусок — раз-два, раз-два, — четыре раза пожевал, проглотил, после чего — «кхак!» — коротко откашлялся. Я повторил все то же самое: отрезал, укусил, четыре раза чавкнул и в конце сделал «кхак!».
Гон бросил на меня недовольный взгляд: он наконец заметил, что я его копирую.
— Дебил, — пробормотал Гон.
— Дебил, — повторил я.
Гон подергал туда-сюда губами, убедился, что я его зеркалю. Тогда он начал корчить рожи и бубнить что попало, типа «пицца», «говно», «сортир» или «сдохни». А я все повторял за ним, как попугай или как шут в балагане. Я даже вдохи и выдохи делал под счет, чтобы было ровно столько же, как у него.
Наша странная игра с передразниванием затягивалась, и Гону она начала надоедать. Он уже перестал улыбаться, и теперь ему требовалось больше времени, чтобы придумать очередную затейливую гримасу или жест. Мне же было все равно, и когда он в задумчивости шевелил бровями или выдувал ртом «пы-пы-пы», я все повторял за ним, вплоть до малейшего движения. Мое непрерывное обезьянничанье, видимо, мешало, сбивая его с креативной волны.
— Прекращай уже, — проворчал он.
Но я не прекратил, лишь снова отозвался эхом:
— Прекращай уже.
— Прекращай, блядь.
— Прекращай, блядь.
— Ты издеваешься, что ли, придурок?
— Ты издеваешься, что ли, придурок?
Гон замолчал и принялся барабанить пальцами по столу. Едва я застучал, он