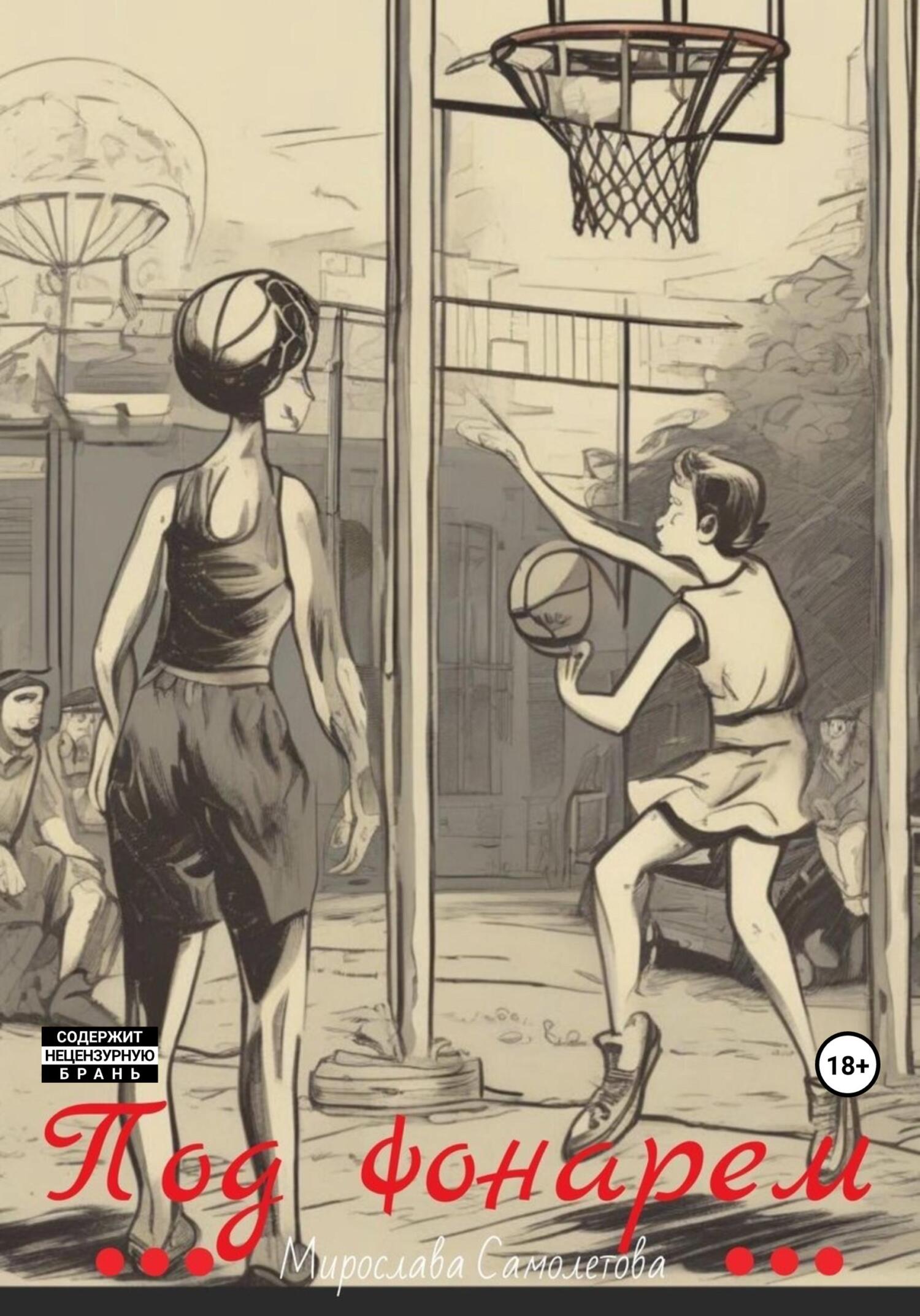мне то, чего я не могла желать, потому что границы моего воображения не способны простираться настолько далеко. Ты вытащил меня из скорлупы рамок и дал возможность взглянуть на них со стороны. Я — улитка, познавшая жизнь вне раковины.
— Это… хорошо? — подозрительно спрашивает Вонка.
— Это как божественное откровение.
— Элли, хватит говорить, как твой дружок-зазнайка Эдгар! Скажи лучше, что ты чувствуешь.
— Счастье. Глубокое и безраздельное.
— Ну вот!
Не оборачиваясь, я чувствую, что он улыбается, а потом неожиданно на мои плечи ложатся его ладони, узкие и стянутые тонкими перчатками. Внезапное прикосновение парализует меня, заставляя все внутри встрепенуться и воспарить ввысь.
— Молодец! Видишь, девочка, это было не сложно. Но мне тебя все равно придется разочаровать. Или удивить. Или и то, и другое вместе взятое. Потому что, видишь ли, это не твой подарок. Вот так. Это лишь маленькая преамбула. Тебя же ждет что-то совершенно невообразимое. Застегнуть ремни и приготовиться! Обратный отсчет пошел.
Где-то вверху над нашими головами начинают бить часы. Тяжелое и грудное «Бом!» заставляет воздух вибрировать. Удары, один за другим, наслаиваются друг на друга, сливаясь в причудливое многоголосие.
В предвкушении я кусаю губы, напряженно вслушиваясь в череду громоподобных ударов, раскатистым эхом разносящихся в застывшем холодном воздухе. Вонка, который стоит так близко, больше не кажется недостижимо далеким, мне вдруг приходит в голову, что вся эта филигранная работа мастера, воплощенная в удивительном макете открытого космоса — часть его души, с которой мне дозволили соприкоснуться.
Почему? Я не спрашиваю об этом даже себя.
Одиннадцатый удар. Вонка нагибается и шепчет мне на ухо: «Не забудь загадать желание», его дыхание оседает на моей скуле. По коже бегут предательские мурашки.
Двенадцатый удар — и непроглядный мрак ночи низвергает на землю свои секреты.
Звездопад. Небесные сети рвутся, не выдержав слишком тяжелого улова. Оставляя на темном небосводе нити блестящих росчерков, звезды срываются вниз, на полпути исчезая из виду, будто тысячи падших ангелов, изгнанных из рая.
У меня захватывает дух. Разумеется, остолбеневшая, обескураженная, я не в состоянии даже и помыслить о том, чтобы загадать желание. Мне кажется, будто я лечу вниз, набирая скорость, стрелой рассекаю воздух, как одна из этих звезд, и от восторга, восхищения у меня перекрывает дыхание.
Когда небо успокаивается, я не вижу в нем перемен. Звезд не становится меньше и горят они все так же ярко. Только теперь это зрелище больше не взывает к моим истокам, не переворачивает всю мою суть наизнанку: то ли я свыклась и пресытилась, то ли, познав что-то лучшее, уже не могу оценить меньшее.
Как жаль, что мы обречены на вечную погоню за счастьем. Нам не удержать его в руках, не расширяя границ увиденного и приобретенного. И с определенного момента покой и постоянство вынуждены приносить не умиротворение, а хандру и скуку. И только сейчас я понимаю слова Эдвина, сплетающиеся в голове словно из ниоткуда:
«…При этом, если мечты осуществляются, твой фантазийный маленький мирок рушится, поглощаемый реальностью, и это тебя угнетает, вгоняет в тоску, поскольку жить настоящим здесь и сейчас ты так и не научилась. И знаешь, что страшнее всего, Элизабет? Это вывод. Так или иначе, выходит, что счастлива ты априори быть не можешь.»
Я была глупа. Приблизив сказку, я сделала ее своей реальностью, адаптировалась к ней, приняла ее как данность и разучилась видеть в ней очарование. Став моей обыденностью, она потеряла свои позиции путеводной звезды, и мечты утратили свой сокровенный смысл. Я стала придумывать себе стимулы, проблемы, препятствия только, чтобы чем-то заполнить глубинную и терзающую пустоту. Я была глупа.
И дело даже не в том, что когда желания сбываются, жизнь становится пресной, а в том, что мы не умеем ценить того, чем обладаем. Мы не находим радости в повседневных пустяках, нас влечет только недостижимое. Как и звезды, мы — вечные странники, и в этом наше проклятие.
— Счастливого Рождества, Элли! — торжественно декламирует Вонка, отходя на шаг в сторону и элегантно прислоняясь спиной к парапету. Когда он больше не стоит сзади, я не могу оторвать от него глаз: пристально изучаю его лицо, одежду, стараясь запомнить как можно больше деталей. Вселенная, во всей своей красоте, меркнет, когда он рядом, одни его глаза, кажется, горят ярче звезд на этом импровизированном небе. И я задыхаюсь нежностью.
— И тебе.
— Элли, — Вонка запрокидывает голову и смотрит вверх. — Мы должны обсудить одну важную вещь. Самую первостепенную из всех главнейших.
— Да? — выдыхаю я, чувствуя, как волосы на голове готовы зашевелиться от сильного напряжения.
Он быстро склоняет голову набок, недовольно смотрит, словно я ему помешала, потом снова отворачивается.
— Мы должны поговорить о фабрике.
— Фабрике? — я морщусь, пытаясь понять, куда ведет это предисловие.
— Вот именно. Не хочу тебя расстраивать, но ты ей не нравишься.
— В смысле умпа-лумпам? — вздохнув, киваю я. — Знаю. Я уже давно это поняла.
Вонка откидывается назад, давясь безудержным смехом, больше всего напоминающим скрип несмазанных дверных петель. Я хмурю лоб, не понимая, что такого забавного прозвучало в моей фразе, спровоцировавшее этот взрыв.
— Элли… Скажешь тоже, — отсмеявшись, машет рукой Вонка. — «Не нравишься умпа-лумпам» — и как ты до этого додумалась только? Вот смешная! — его лицо вмиг становится серьезным. — Да они тебя презирают. В упор видеть не желают. Плюют с высокой колокольни. Сбрасывают со счетов. Нос воротят…
— Спасибо-спасибо, — поспешно перебиваю я. — Я поняла. Тогда что ты имел в виду?
— Не волнуйся, меня не сильно заботит, что умпа-лумпов от тебя тошнит, — примирительно улыбается Вонка. — А вот то, что ты не нравишься фабрике, очень плохо.
— Но как ты это понял? В смысле, она сама тебе сказала?
— Какая ты все-таки глупышка, Элизабет! Где ты видела говорящую фабрику? — он нетерпеливо подносит ладонь к моим губам, предупреждая, чтобы я не продолжала говорить, и я послушно замолкаю.
— Не подумай, Элли, что так было всегда. Вначале ты ей даже нравилась, очень нравилась, больше, чем кто-либо еще. В тебе была полетность — а для фабрики очень важно, чтобы в людях была полетность. Да. И все шло так замечательно, она к тебе тянулась, с одобрением наблюдала за тобой со стороны, пока ты внезапно не заскучала. Совершенно непонятно почему. А потом еще эти дети, — он раздраженно морщится, судорожно дернув головой в сторону, видимо, чтобы прогнать неприятное напоминание. — И теперь фабрика сильно встревожена. Ей хочется, чтобы ты снова стала прежней, но она не знает, чем тебе помочь.
Я подношу руку к лицу, пряча улыбку. Сейчас я