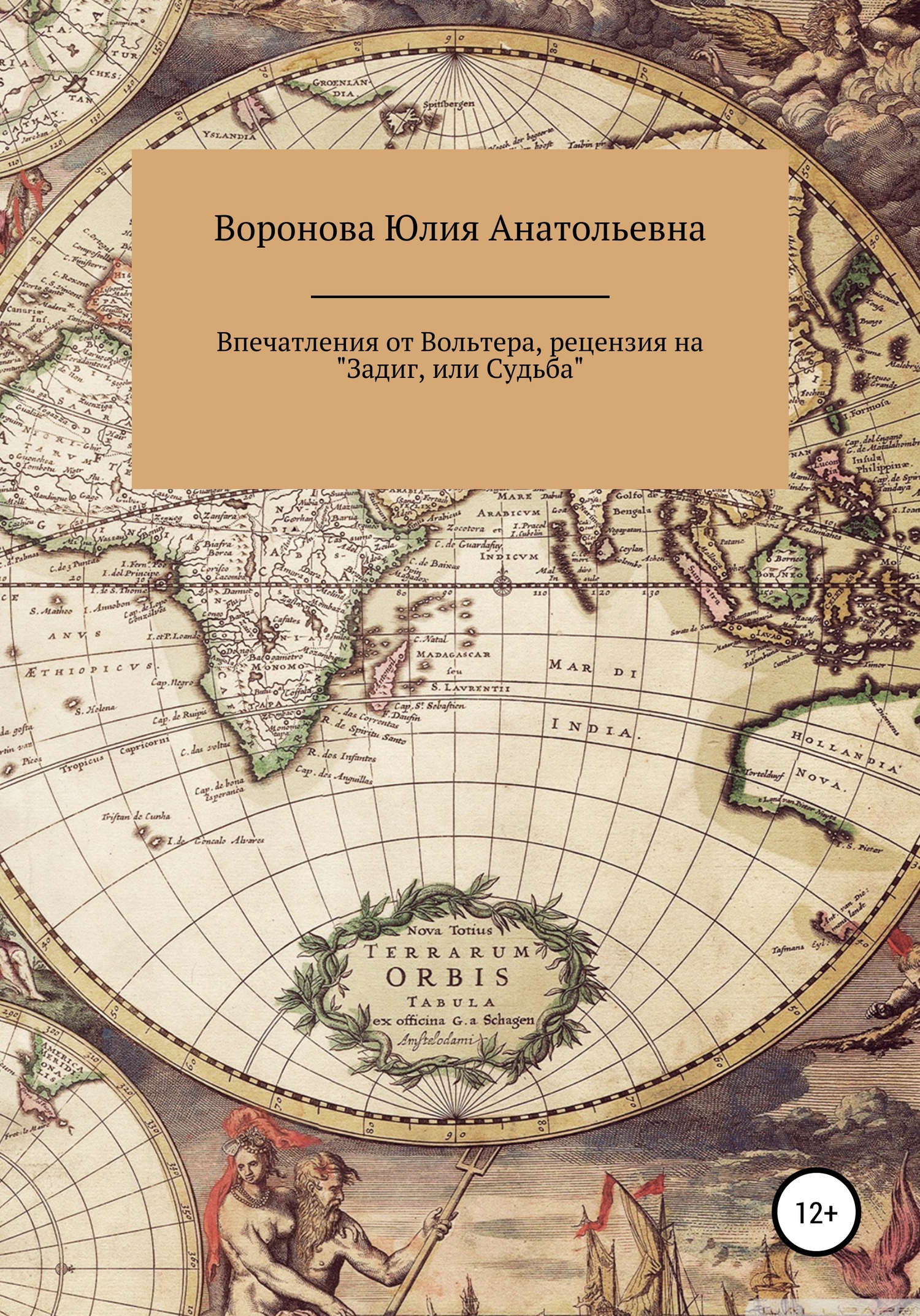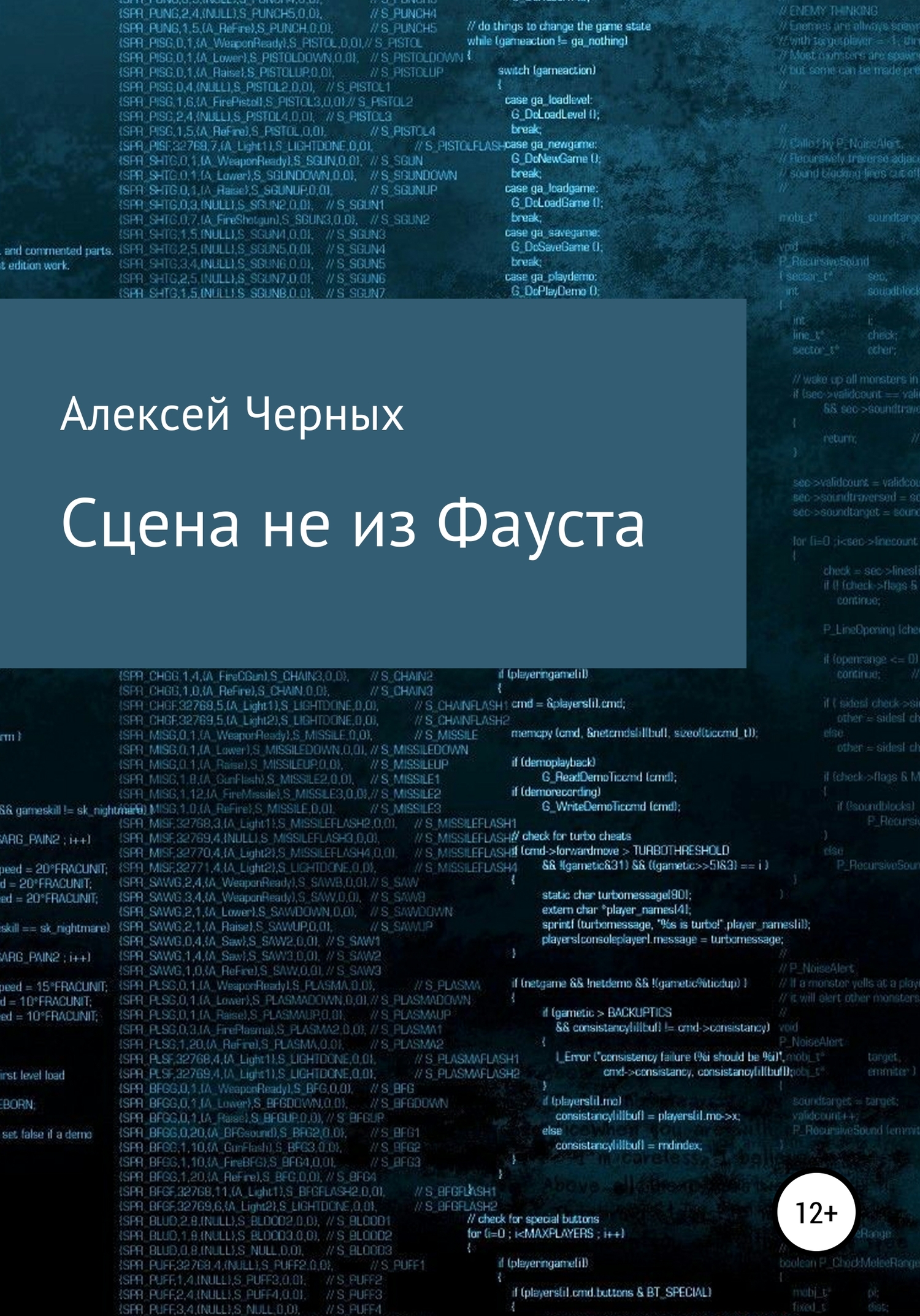что вечно, а что преходяще. Удачи выступили на первый план и могли послужить утешением, неудачи были пережиты и забылись. Каждый, от угольщика и до владельца фарфорового завода, по-прежнему жил в соответствии со своим предназначением. Ковали железо, из рудных жил добывали бурый камень, <…> варили смолу, <…> и так все шло своим чередом <…>. В целом здесь можно видеть достойное восхищения использование разнообразнейших земных и горных поверхностей и недр»[1777].
Последние полгода жизни, как и все предыдущие годы, проходят в творчестве и работе. Любознательность и интерес к жизни до последнего вздоха. Он снова берется за Гегеля. Из письма к Цельтеру: «Природа ничего не делает просто так, испокон веков твердит обыватель; но она творит в своей вечной жизни, изобилии и щедрости, чтобы в каждой момент времени на земле присутствовало бесконечное, ибо ничто не может оставаться неизменным навсегда. В этом я, как мне кажется, приближаюсь к гегелевской философии»[1778]. Природа не заботится о смысле или о пользе – утверждать обратное может только обыватель, и точно так же он думает об искусстве, будто и его нужно приспособить для полезных целей. Вздор! Тот, кто по-настоящему близок к искусству, видит это совершенно иначе, пишет Гёте Цельтеру далее. Искусство рождается таким, каким оно само хочет быть, а не таким, каким его представляет себе художник или тем более публика. Современный мир не способен этого понять, ибо единственное, что его волнует, – это экономическая выгода и полезность. Им правят суетливые обыватели, и жизнь в нем приобретает «велоциферские»[1779] черты, читаем в черновике письма внучатому племяннику Николовиусу. «Как не остановить паровые машины, точно так же невозможно и замедлить нынешние нравы: оживленная торговля, шелест бумажных денег, новые долги ради уплаты уже имеющихся – все это чудовищные начала»[1780]. Таков современный мир, навсегда лишающий человека покоя. Для искусства отдохновения, внутреннего сосредоточения и погружения в себя, предназначенного не для сиюминутного употребления, а, наоборот, требующего от индивида отрешения от корыстных целей, настали плохие времена. «Величайшую беду нашего времени, которое ничему не дает созреть, – пишет он в том же черновике, – я вижу вот в чем: оно каждый миг проедает миг предыдущий. <…> Никто не вправе радоваться и страдать, иначе как для забавы остальных».
В последнем письме Гёте, отправленном Вильгельму фон Гумбольдту 17 марта 1832 года, т. е. за пять дней до смерти, этот гнев на современную эпоху вспыхивает в последний раз: «Миром правит путаная купля-продажа и вносящая еще большую путаницу мораль». И далее Гёте невозмутимо продолжает: «А у меня не находится более насущных дел, нежели развивать то, что во мне было и осталось, и оттачивать свое своеобразие, чем занимаетесь и Вы, мой почтенный друг, у себя в замке»[1781].
Жизнь Гёте подходит к концу. Последняя запись в дневнике сделана 17 марта 1832 года, в пятницу: «Целый день провел в постели из-за плохого самочувствия». Накануне он еще выезжал в своем экипаже и, по-видимому, простудился. Сильные боли в груди, температура, тяжесть внизу живота. Его внешний вид внушил серьезные опасения домашнему врачу доктору Фогелю: «Он казался как будто растерянным, но особенно меня поразил потухший взгляд и апатия в прежде всегда светлых, невероятно живых глазах»[1782]. Время от времени Гёте становится лучше, он беседует с гостями и даже шутит. Однако вскоре наступает ухудшение, и утром 20 марта снова зовут врача: «Печальная картина предстала моим глазам! Безумный страх и беспокойство не оставляли его. Давно уже привыкший к размеренным движениям, этот глубокий старик с невероятной быстротой бросался из стороны в сторону, то ложился в постель, напрасно пытаясь, ежесекундно меняя позу, найти какое-то облегчение, то садился в кресло около кровати. Зубы стучали от озноба. Он то стонал, то громко вскрикивал от мучительной боли в груди. Серое лицо, искаженное гримасой, глубоко запавшие глаза, синеватые веки, тусклый, затуманенный взгляд, в лице неодолимый страх смерти»[1783].
На следующий день, 22 марта, Гёте немного успокоился. Он мог подолгу сидеть в кресле, произносил какие-то слова, не всегда понятные, поднимал руку и писал что-то в воздухе – букву W, как утверждает врач. Дошедшую до потомков просьбу открыть ставни, чтобы «стало светлее», Фогель, впрочем, не слышал.
На часах был полдень, когда Гёте затих, свернувшись в кресле.
Заключительное слово, или Стать тем, кто ты есть
Гёте хотел закончить начатое. Это желание заставляло его трудиться до последнего дня. «Фауста» он завершил незадолго до своей смерти, так же как и «Поэзию и правду». В 1829 году он отдал в печать «Годы странствий» во второй редакции, чтобы, по крайней мере формально, закончить и их. С «собранием сочинений в последней редакции» издателям пришлось еще потрудиться, однако и в том, что касается литературного наследия, он cделал немало или, как казалось ему самому, самое главное.
Но, несмотря на то что в частном он всегда стремился закончить начатое, мысль о том, что жизнь в целом достигает своего завершения лишь в конце жизненного пути, была ему чужда. Каждый момент жизни должен был иметь значение и ценность не в свете некой конечной цели, а сам по себе. Телеологическое толкование жизни ему претило. Он не хотел служить никакой общей исторической цели и свою жизнь не желал подчинять никаким внешним задачам, несмотря на то что в 1780 году использовал для ее описания образ пирамиды, которую надеялся достроить до вершины. Впрочем, Гёте был готов к тому, что это ему не удастся. Попытка – не пытка. Во всяком случае, он во что бы то ни стало хотел завершить начатые проекты. Этим упорством он был обязан своей ориентацией на произведение, которое, как правило, тоже имеет начало и конец.
Но результаты – это одно, а неустанная деятельность – нечто другое. Здесь Гёте в принципе не мог себе даже представить какое-либо завершение. Для него идея вечной жизни, как он объяснял Эккерману 4 февраля 1829 года, вытекает из понятия деятельности. Если он до последнего вздоха непрерывно творит и созидает, то природа просто обязана предоставить ему иную форму бытия, если нынешняя уже не в состоянии удерживать его деятельный дух. Стало быть, от человека остается его творческое беспокойство. В возрасте восьмидесяти двух лет он говорил, что всегда стремится вперед и поэтому забывает, что уже успел написать, а когда читает написанное, то часто с трудом узнает свои собственные мысли. Конечно, в старости он тщательно собирал все, что когда-либо вышло из-под