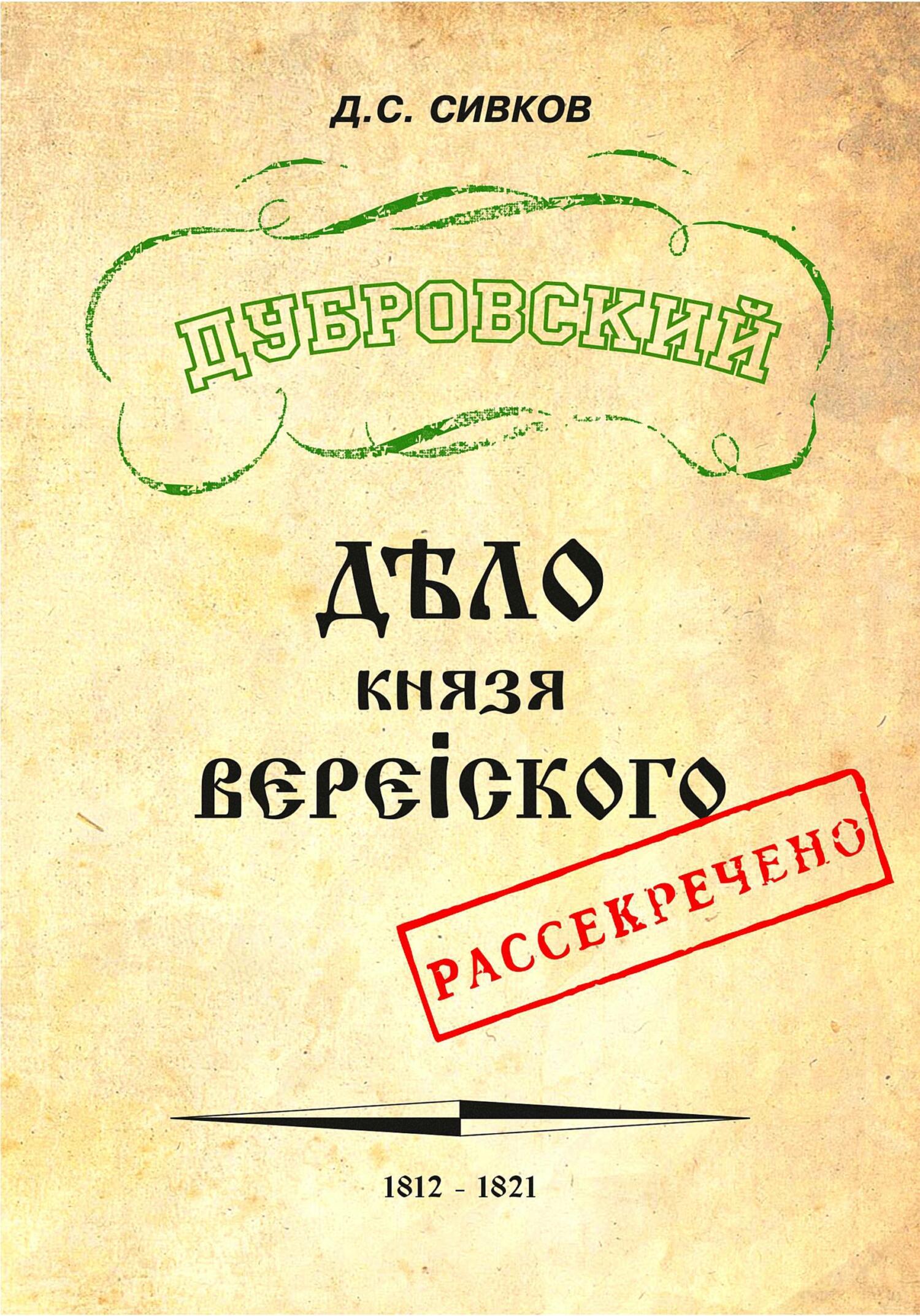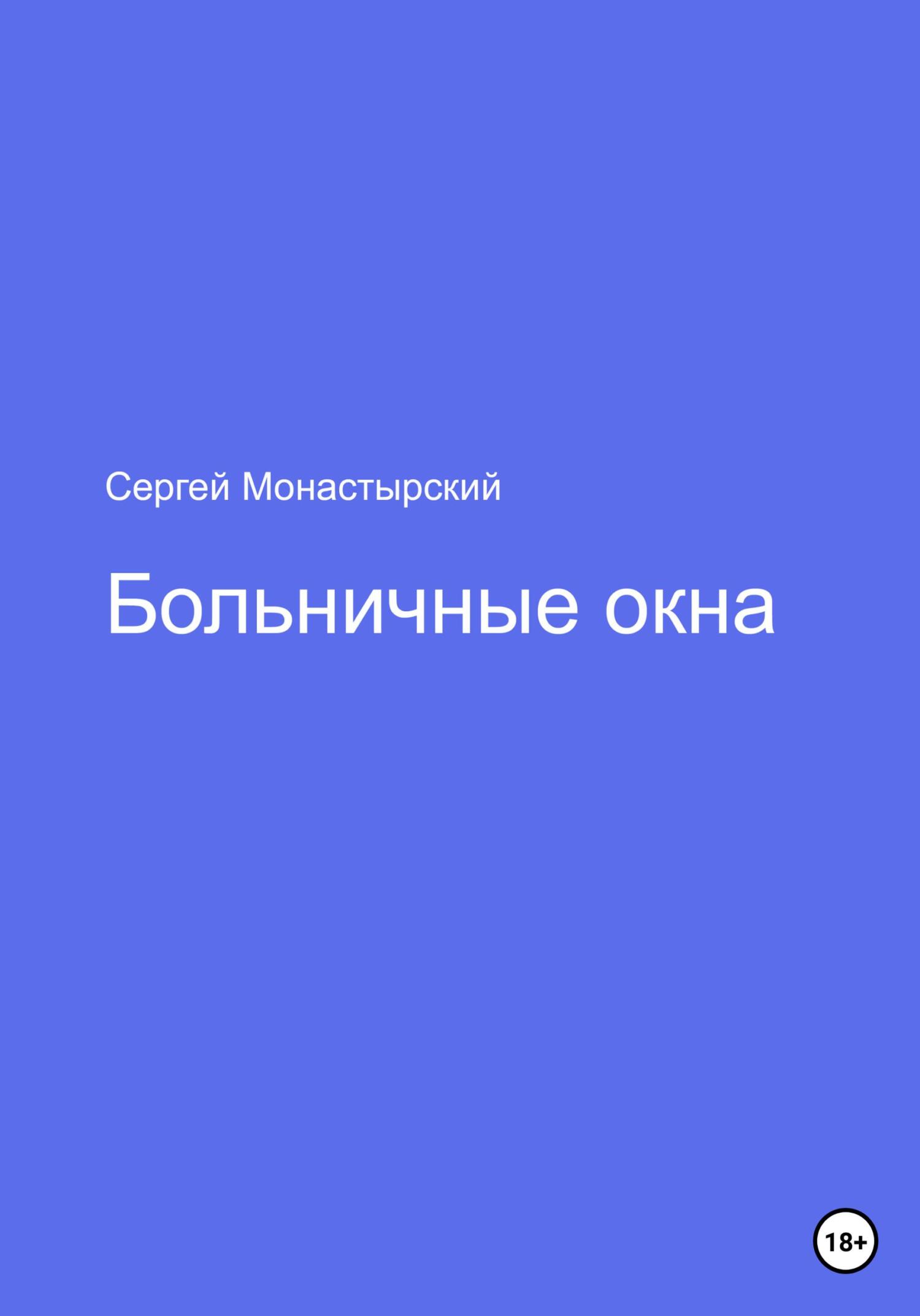хозяйственным пылом, нельзя было говорить о предметах, не имевших прямого отношения к вещевым и продовольственным посылкам. Всякий разговор он сводил к тому, что следует руководствоваться комбинированным методом при организации посылок. Вначале он считал, что надо домой посылать полотно и шерсть, потом он решил посылать продовольствие: натуральный кофе, мед, топленое масло. Лишь перейдя Северский Донец, он осознал, что многообразные потребности семьи следует удовлетворять гармонично, комплексно.
Он любил показывать офицерам свое походное производство: денщик в белом халате переливал через химическую воронку с фильтром топленое масло в большие металлические банки. Тут же банки герметически запаивались. Денщик умел мастерски паять, шить плотные мешки, компактно, с ловкостью фокусника укладывать десятки метров мануфактуры в немыслимо маленькие пакеты. Все эти дела тешили великана Прейфи, занимали его мысли в свободное от войны время.
Начальник штаба батальона алкоголик Руммер раздражал Баха своей многоречивостью. Как и все недалекие люди, он был необычайно самоуверен, а напившись, любил, авторитетно поучая собеседника, говорить о международной политике и стратегии.
Молодые офицеры не склонны были к беседам. Их интересовали простые радости: пьянка, женщины. А Баху в этот необычайный день страстно хотелось поговорить, поделиться с умным собеседником мыслями.
– Недели через две, – сказал Прейфи, – мы попадем в самую настоящую Азию, в царство шелковых халатов, бухарских и персидских ковров кустарной выделки, им нет цены. – Он рассмеялся. – Нет, что ни говори, но в этом Сталинграде мне досталось кое-что, чего вам не удалось достать. – Он приподнял край плащ-палатки, прикрывавшей рулон серой материи. – Чистая шерсть, я пробовал жечь нитку на спичке, краешек нитки спекается. Кроме того, я вызывал эксперта – полкового портного.
– Это настоящая ценность, – сказал Руммер, – метров сорок.
– Ну, какие сорок, не больше восемнадцати, – сказал Прейфи. – Если б я не взял эту материю, ее взял бы другой, ведь это ничье, как воздух.
Он не любил в присутствии Ленарда говорить о крупных масштабах своих операций.
– Где женщины, которые жили в этом доме? – вдруг спросил Ленард. – Одна из них красивая, настоящий северный тип.
– Их переправили вместе с другими на западную окраину, есть распоряжение начальника штаба дивизии, – ответил Руммер, – он предполагает возможность контратаки.
– Жаль, – сказал Ленард.
– Вы хотели побеседовать с ними?
– С толстой старухой, конечно?
– Ну ясно, красавица его не интересует.
– Толстуха не так уж стара, у нее восточный тип лица, – сказал Прейфи, и все засмеялись.
– Совершенно верно, господин гауптман, – сказал Ленард, – я и подумал: не еврейка ли она.
– Там разберут, – сказал Руммер.
– Вот что, отправляйтесь в роты, – сказал Прейфи и прикрыл плащ-палаткой рулон шерсти, – и не лезьте зря под пули. Сегодня я стал трусом: быть убитым русскими под конец войны – нет ничего глупей!
Бах и Ленард вышли на улицу. Их командные пункты разместились в одноэтажном длинном здании – Бах в южной части, Ленард – в северной.
Ленард сказал:
– Я к вам приду посидеть, тут можно пройти от меня внутренним коридором, не выходя на улицу.
– Заходите, у меня есть спирт, – сказал Бах, – меня раздражают бесконечные разговоры о трофеях.
– Если мы высадим десант на луне, – сказал Ленард, – то первый вопрос нашего гауптмана будет: есть ли тут мануфактура, потом уж он спросит, есть ли кислород в атмосфере. – Он постучал пальцем по стене. – По-моему, эта стена возведена в восемнадцатом веке.
Стены поражали ненужной толщиной, такой толщины стены могли бы выдержать восемь этажей надстройки, а дом был одноэтажный.
– Русский стиль, бессмысленный и пугающий, – сказал Бах.
Телефонисты и вестовые помещались в большой комнате с низким потолком, офицеры уселись в маленькой комнатке. Из окошечка они видели набережную, памятник какому-то советскому герою и кусочек реки; из второго окошечка виднелись высокие серые стены городского элеватора и заводские постройки в южной части города.
Почти половину первого сталинградского дня они провели вместе, пили и разговаривали.
– Удивительное свойство немецкой натуры, – сказал Бах, – всю войну я тосковал по дому, а сегодня, когда я наконец поверил, что войне подходит конец, мне стало грустно.
Я не берусь вам сказать, какие часы были самыми приятными в жизни: не эти ли, минувшей ночью, когда я подполз с гранатами и автоматом к черной, дикой Волге, зачерпнул каской воды, вылил ее себе на разгоряченную голову и посмотрел на черное азиатское небо, на азиатские звезды, и капли воды были на стеклах очков, и я вдруг понял – это я, я прошел своими ногами от Западного Буга до Волги, до азиатских степей.
Ленард проговорил:
– Мы победили не только большевиков и русское пространство – мы избавили самих себя от бессилия гуманизма.
– Да, – сказал Бах, охваченный умилением, – вот такой разговор, как мы сейчас ведем с вами в завоеванном городе, на командном пункте роты, могут вести только немцы. Страсть обобщать факты – это наша привилегия. И вы правы: эти две тысячи километров мы прошли без помощи морали.
Ленард дружелюбно, по-товарищески, нагнувшись через стол, сказал:
– И я бы хотел видеть человека, который бы с берега этой Волги упрекнул Гитлера, что он повел Германию по неправильному пути.
– Такие люди, вероятно, есть, – сказал весело Бах, – но они, естественно, молчат.
– Есть, правильно, но разве это имеет значение? Разве на историю влияют сентиментальные старухи учительницы, интеллигентские слюнтяи и всякие там специалисты по детским болезням? Не они выразители немецкой души. Важна не сопливая добродетель, важно быть немцем. Это главное.
Они снова выпили, и туман застлал голову Баха, он ощутил непреодолимое желание завести откровенный разговор. Где-то в глубине сознания Бах понимал, что, будь он трезв, он не стал бы говорить того, что скажет сейчас, что, протрезвившись, пожалеет о своей болтливости, будет испытывать нудный страх и беспокойство. Но здесь на Волге ничто не казалось недозволенным, даже откровенный разговор с Ленардом.
Ленард варился в армейском котле, он не тот, что был. В его светлых глазах с длинными ресницами было что-то притягивающее.
– Видите ли, – сказал Бах, – я долгое время считал, что Германия и национал-социализм – это различные вещи. Я воспитывался в такой среде: мой отец, учитель, вылетел со службы, он говорил школьникам не то, что нужно. Правду говоря, меня всегда интересовали другие идеи. Я не был сторонником расовой теории, откровенно скажу, я сам вылетел из университета. Но вот я дошел до Волги! В этом марше больше логики, чем в книгах. Человек, который провел Германию через русские поля и леса, который перешагнул через Буг, Березину, Днепр и Дон, – теперь-то я знаю, кто он. Вот это я понял… То, что дремало в туманных страницах: «По ту сторону