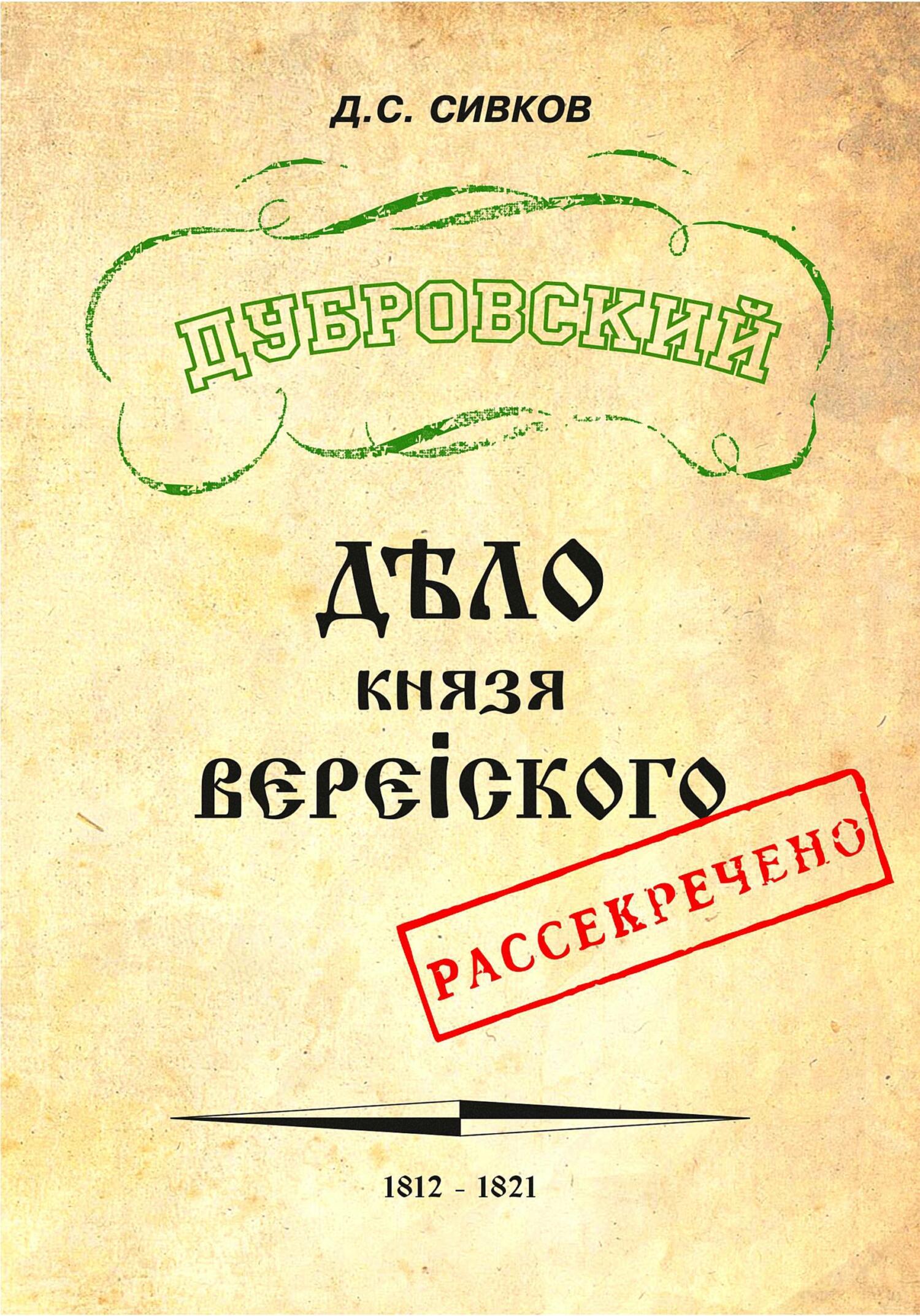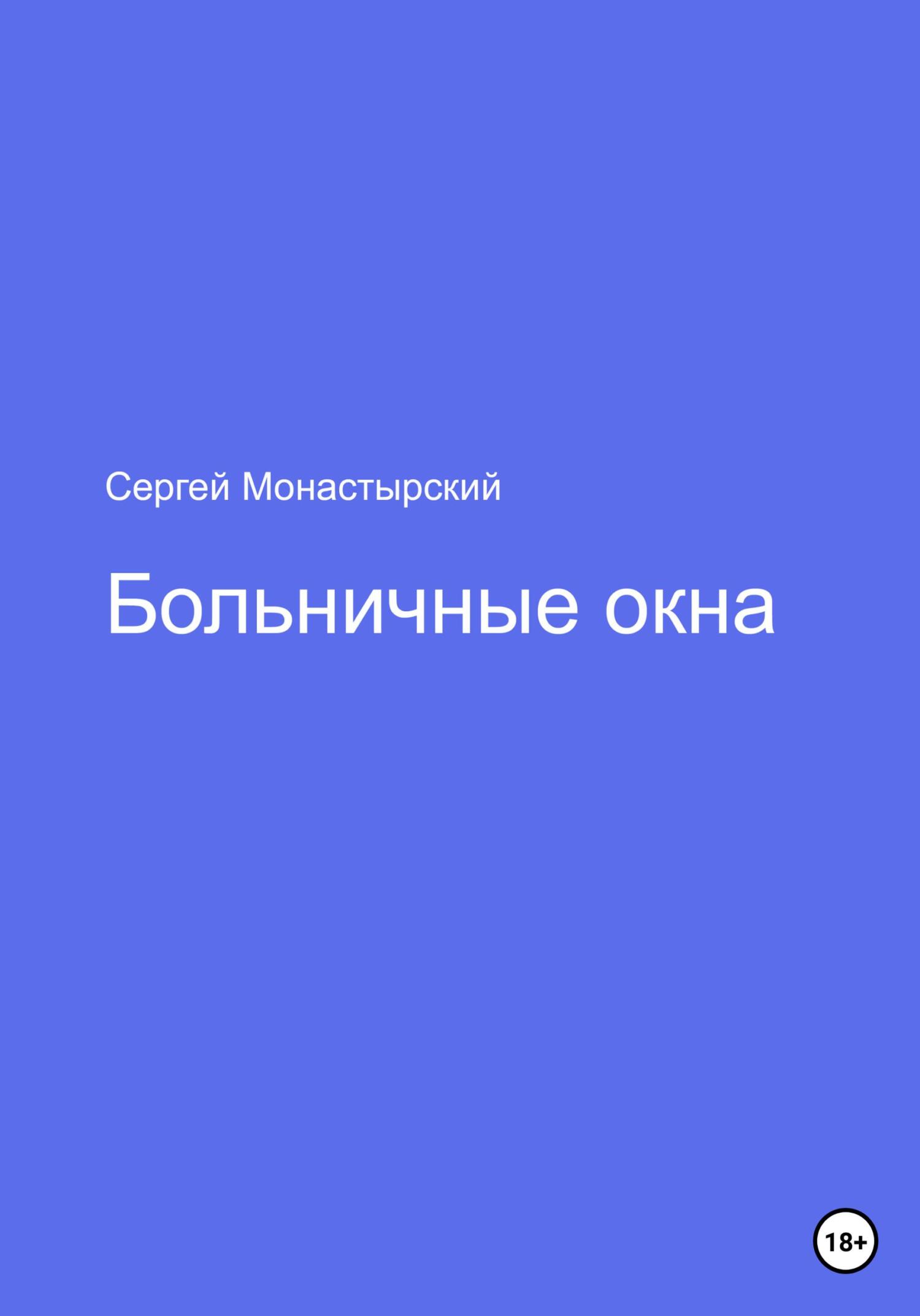уже в темноте, с подписанным приказом о наступлении.
Наступил час тишины. Ночь встала над Волгой в дивном богатстве своем, в синеве и мягком плеске волны, в прохладе и тепле многоструйного ветра, несущего то жар степи, то мертвую духоту улиц, то живое, сырое дыхание реки.
Миллионы звезд смотрели на город, на реку, слушали журчание воды в прибрежных камнях, слушали шепот, покряхтывание, негромкие вздохи людей.
Работники штаба вышли из трубы, глядели то на реку, то на небо, то на силуэты командира дивизии, комиссара и начальника штаба, сидевших у воды на полузасыпанном песком бревне.
Всем было тревожно, и все думали об одном и том же, поглядывая на широкую водную преграду, вглядываясь в ту сторону, где едва темнело Заволжье.
Командир дивизии вынул папиросу, закурил, затянулся несколько раз.
Начальник штаба негромко спросил:
– Как, товарищ генерал, наш новый командующий?
Видимо, Родимцев не расслышал вопроса, и Вельский не стал повторять его.
Родимцев еще несколько раз затянулся, бросил папиросу в воду.
Вавилов негромко проговорил:
– Вот и новоселье.
Родимцев, видимо думая о своем, сказал:
– Да, вот именно. Так вот и живем.
Казалось, каждый из них говорил о своем, не отвечая собеседнику, но это было не так: они понимали настроение и ход мыслей друг друга.
Все они начали войну в июне 1941 года и вместе пережили столько тяжелого, так часто видели смерть, столько холодного осеннего дождя и горячей июльской пыли, зимних метелей выпало на их долю, столько было говорено и рассказано, что они с первого слова, иногда с полуслова, а иногда и без слов понимали друг друга.
Родимцев молчал и вдруг сказал, отвечая на вопрос Вельского:
– Начальство есть начальство. Или оттого, что немец раздразнил, пикировал на него весь день, но, видать, характер есть.
Они долго слушали тишину в предчувствии, что больше тишины в этом городе им не слышать.
Командир дивизии проговорил, всматриваясь в Волгу, слова, которые не положено слышать подчиненному от начальника перед наступлением:
– Грустно, Вельский, никогда так грустно мне не было, ни при сдаче Киева, ни под Курском. Пришли мы сюда умирать.
По Волге томительно медленно скользил какой-то темный предмет, и нельзя было понять, лодка это без весел, раздутый труп лошади или обломок взорвавшейся баржи.
А за спиной молчал сожженный город, и люди, глядевшие на Волгу, вдруг оглядывались, точно ловя на себе давящий, тяжелый взгляд, наблюдающий за ними из тьмы.
26
Вечером командарм уже знал о подробностях переправы. В двадцать два часа ему представился Родимцев, и командарм отдал приказ о наступлении. В полночь он принял начальника особого отдела и председателя армейского трибунала, доложивших дела командиров, самовольно переправивших свои штабы на Зайцевский и Сарпинский острова. Командарм тяжело задышал и, взяв карандаш, пододвинул к себе бумаги.
– Все, – сказал он, – можете быть свободны.
После он долго ходил по блиндажу. Лицо его потемнело, тяжелые брови насупились, взор был угрюм. Он сел на стул, взъерошил волосы и, выпятив нижнюю губу, стал пристально разглядывать карандаш, которым только что подписал бумаги, принесенные трибунальцем и особистом; вздохнул и снова заходил по блиндажу, расстегнул ворот, ощупал пальцами шею, провел ладонью по груди и по затылку. В прокуренном блиндаже нечем было дышать.
Командарм прошел к выходу, по штольне, где спал его адъютант.
Лейтенант лежал полуприкрытый шинелью, сползшей до пола. Командарм посветил фонариком – бледное детское лицо с полуоткрытыми губами казалось болезненным.
Генерал поднял шинель и прикрыл худые плечи спящего.
– Мама, мама, мама, – сдавленным голосом позвал спящий.
Генерал всхлипнул и, тяжело ступая, поспешно вышел из блиндажа.
27
В предрассветной мгле неясно мелькали тени людей, позвякивало оружие – полки 13-й дивизии, поднятые по тревоге, готовились к выступлению. Политруки негромко окликали людей, сзывали на короткую беседу, светя электрическими фонариками, указывали дорогу.
Над откосом на грудах кирпича сидели красноармейцы, слушали комиссара полка Колушкина. Он говорил негромко, и сидевшим в задних рядах приходилось напрягать слух, чтобы расслышать. Это собрание на волжском откосе, среди развалин, при слабом свете едва наметившейся на востоке светлой полоски зари, вещавшей приход жестокого дня, было каким-то особым, будоражащим душу.
Колушкин не стал говорить по плану, который наметил себе заранее, а начал рассказывать красноармейцам о своей жизни в Сталинграде, о том, как работал на стройке завода, рассказал, как перед войной ему дали квартиру неподалеку от того места, где он сейчас сидит на обгоревшем бревне, рассказал, как болела его старуха мать, как она просила, чтобы постель ее поставили у окна, из которого видна Волга… Красноармейцы слушали в молчании.
Когда Колушкин кончил говорить, он вдруг различил массивную фигуру комиссара дивизии, прислонившегося к выступу кирпичной стены.
«Ох, – с тревогой подумал Колушкин, – чего я наплел такого, все не на тему… вот он, придира, мне даст, разве это политработа в наступлении?»
Комиссар дивизии пожал ему руку и проговорил:
– Спасибо, товарищ Колушкин, хорошее слово сказал.
28
Когда германская ставка сообщила по радио, что Сталинград занят немецкими войсками и сопротивление Красной Армии продолжается лишь в районе заводов, немцы сами были убеждены в полной объективности этого сообщения.
Вся центральная административная часть города, ее площади, улицы, вокзал, театр, банк, школы, центральный универсальный магазин, здание обкома партии, горсовет, редакция газеты и сотни полуразрушенных жилых многоэтажных зданий, собственно и составляющих новый город, находились в руках немцев. В этой части города советские войска занимали лишь узкую полосу набережной.
По мнению немецкого командования, сопротивление красных на северных заводах и на юге, в предместье Бекетовке, не имело никакой перспективы.
Линия советской обороны была рассечена и нарушена, центр отъединен от севера и юга, взаимодействие армий представлялось немыслимым, коммуникации были полупарализованы.
Убежденность в победном решении сталинградской задачи была у всех немецких офицеров и солдат; никто не предполагал закреплять захваченное, настолько ясной казалась прочность завоевания. Многие штабные немцы считали, что уход Красной Армии за Волгу – вопрос дней, даже часов.
Поэтому одной из причин успеха первого наступления дивизии Родимцева была внезапность. Немецкое командование не ждало этого наступления.
Правофланговый полк дивизии Родимцева завязал бои за Мамаев Курган, господствовавший над городом, после чего все три полка соединились и вновь восстановили непрерывную линию фронта.
Были захвачены десятки больших зданий. Полк, наступавший в центре, особенно далеко продвинулся на запад и одним из своих батальонов захватил вокзал и прилегавшие к нему постройки. Наступление немцев в южной части города было приостановлено.
Родимцев отдал приказ занять оборону и драться: в полуокружении, в окружении –