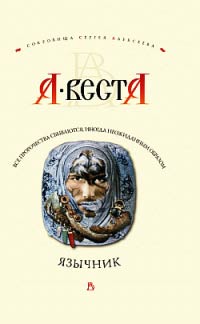Удивительное это место: Афонькины палаты. Когда-то, еще в позапрошлом веке, купец Афанасий Канашкин промышлял контрабандой через русско-персидскую границу. Знался он со многими людьми: со староверами, с молоканами, с раскольниками и с персидскими дервишами, умеющими летать через горные пропасти. Говорят, что кто-то из этих вечных странников показал Афоньке пещеру в горах, как водится, полную сокровищ.
Споро пошло гулять по свету найденное богатство. Разбогател купец: был Афонька-Канашкин стал Афанасий Никитич. Вот тут-то дурь купеческая и поперла вширь. Выстроил Афанасий посреди города белокаменные палаты и открыл первый в этой местности краеведческий музей. Чтобы пополнить начальную экспозицию снарядил меценат кругосветное плавание и отплыл из Одессы в Константинополь, после до Индии дошел, а на обратном пути посетил Иерусалим.
И понавез Канашкин из дальних краев всяких восточных диковин, смешав по невежеству века и эпохи. И лишь с расцветом подлинной истматовской науки всю его коллекцию хорошенько разобрали и систематизировали, вот тут-то и обнаружились удивительные вещи. Оказалось, что нашел Афонька в горах древний клад времен хазарского каганата.
От его первоначальной коллекции нерушимо сохранились только десяток монет, греческие чаши, диски, русский меч и золотая княжеская гривна с отделкой «волчий зуб». То есть хазарский клад на добрую треть оказался греко-славянским. Тем не менее, принадлежность коллекции попеременно взялись оспаривать друг у друга наследники русов и хазарские претенденты. К тому времени украинское Триполье уже признали семитским очагом культуры, а Афонькин клад все еще оставался ничейной сахарной косточкой, и стояла эта кость в глазу научной общественности неприличным особняком, как ферт какой-то, право слово…
Суточное дежурство в Афонькиных палатах среди глиняных черепков, скребков, стрел и дротиков всегда считалось среди охранников самым спокойным. Все ценные экспонаты уже давно переправили в запасники столичных музеев, иконы вернули церкви, остальное распродали и раздарили, но музейные витрины, тем не менее, не пустовали, и табельный ПМ милиционерам, заступающим на дежурство, аккуратно выдавали.
Суточный наряд «Краюхи», так называли между собой Краеведческий музей бойцы вневедомственной охраны, состоял из двух милиционеров. В тот день в музейных палатах держали оборону сержант Пушкова и рядовой Галкин. По негласному распоряжению чересчур осторожного начальства женщин, а особенно молодых и хорошеньких не назначали на удаленные объекты с напарником мужеского пола, но для Пушка волей-неволей делали исключение.
Как обычно около десяти утра напротив музея остановился грязненький, местами проржавевший уазик, из его пропахшего табачным дымом нутра вывалились бойцы с сумками наперевес – однообразие службы скрашивал усиленный паек. Старший надавил на звонок, подмигивая напарнику.
– Санька-кабан опять спит, с девкой его на ночь оставили и ни хрена!
– Не… Пушок замуж собралась, а Саньке – облом…
Второй весело дернул дверь и едва устоял на ногах, повиснув на латунной, еще купеческой ручке: против всяких правил дверь была не заперта.
– Ну, совсем озверели, даже не заперлись! Заходите, люди добрые! – Старший щелкнул огромным медным засовом, точно прогнал по проволоке счеты.
Сменщики тяжело протопали по залам музея, на ходу заглянули в каптерку, на эти сутки превращенную в спаленку. Низкий столик был завален конспектами, узенький матрасик смят. На полу лежала упавшая книжица. Старший поднял и зачем-то обнюхал томик.
– Стихи… тьфу!
– Эй, Пушок! Ау? – позвал его напарник. Старший подергал носом:
– Слушай, что-то кровью вроде пахнет, я еще в армии нанюхался…
– Точно, свежатиной тянет, как на охоте… Замри…
В музее было тихо, так тихо, что стал слышен далекий паровозный гудок с вокзала.
– Е-мое… Посмотри туда! – позвал старший.
Дверь в Бронзовый зал была распахнута. Утренний свет едва пробивался сквозь шторы из красного бархата. В углу у старинного камина навзничь лежала девушка. Правая рука откинута, из разжавшихся пальцев выпал пистолет. Кровь, густая, темная, как смола, залила паркет. В багровом сумраке слабо светилось ее лицо с едва прикрытыми веками. Волосы словно спеклись на виске, и от этого голова казалось продавленной с этой стороны, как у пластиковой куклы.
– …Твою мать! Пушок в голову шмальнула! – ахнул старший.
Встав на цыпочки, второй милиционер заглядывал в музейный зал.
– Назад! Не напирай! – Старший загородил рукой дверь.
– Глянь-ка – Бабу-ягу расколошматила, – прошептал второй, оглядывая разгром в музейном зале.
Пол вокруг девушки был усеян черепками и розоватой керамической крошкой. Высокая глиняная статуя в полтора человеческих роста, прежде стоявшая в полутемном углу, была расколота на крупные куски.
– Украли чего? – шепотом спросил милиционер.
– Да чего тут украдешь, вроде цело все… «Ангара», «Ангара», я двадцатый…
Через минуту милицейский эфир взорвался вызовами: «В Краеведческом – самострел!» Весть о том, что сержант Пушкова застрелилась накануне свадьбы, казалась бредом в это ясное летнее утро, когда деревья и трава были полны прозрачной, струящейся по стеблям жизни, а птичьи голоса звенели беззаботной радостью.
Ожидая подъезда опергруппы, смена нервно курила на крыльце музея.
– Последняя смена у нее была, – глядя поверх деревьев, говорил старший, – в медовый месяц на море собирались. Жених-то, поди, ничего еще не знает…
– А кто он у нее?