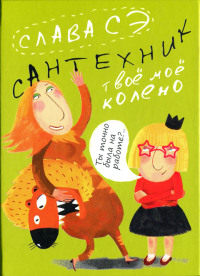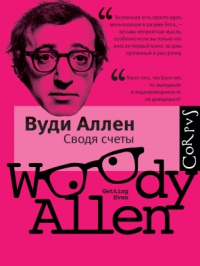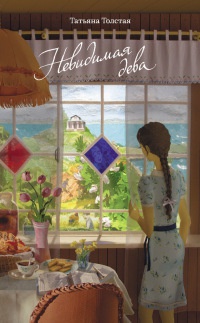И никто не вспомнил унылое: «Женщина на корабле – к несчастью». Да и кой черт вспоминать, если в этот миг перед ними была валькирия?! Орлеанская дева! Екатерина Великая!
… – Мне, однако, пора! – налюбовавшись ею, опомнился Бучнев. – Мышцы не должны остывать.
– Плывите! – благословила она. – Но помните: нам нынче вечером – в театр, на заключительный концерт сезона!
Риночка, завсегдатай филармонического общества, из года в год абонирующая в Опере одну и ту же ложу, была к происходящему на сцене снисходительна, зато Георгий с первых же тактов открывшей концерт увертюры к «Севильскому цирюльнику» впал в совершенное умиление.
Он вспоминал, как стеснило его грудь, едва в Большом театре – дед, приобщая и приобщаясь, привез туда внука – зазвучало это вот: «Та-ра-ра-рима…» Как часто потом мелодия, словно обещающая: «Ох, как сейчас будет весело!», возникала ниоткуда, но, как назло, во время самых тягостных уроков… Как он тихонечко напевал ее, надеясь запомнить – ведь записать мог разве что этими «Та-ра-ра…», поскольку нотной грамоте обучен не был… И непременно раздавалось учительское: «Что это там наш Бучнев, никак музицирует? А ну-ка, милейший, марш к доске!» И шел, куда деться?.. А мелодия еще звучала, клянясь, что поселилась в памяти навечно… Но возвращаясь после изрядной выволочки за свою парту, обнаруживал, что сбежала мерзавка, что в очередной раз вписанное наспех в тетрадку «та-ра-ра-рима» звуками не наполняется.
Но однажды, скучным февральским вечером, разглядывая портрет Россини, он заметил, что толстяк Джоаккино ему подмигивает… Протер глаза, придвинул лампу поближе… да нет же, подмигивает: мол, не горюй, bambino-казачок, давай споем вместе! И они – провалиться на этом самом месте! – спели ВМЕСТЕ! – согласно, складно; потом и просвистели, еще складнее… и с того предсонного часа во вьюжном, сугробном Павловске жаркая мелодия никуда уже не убегала…
…А когда зазвучала околдовавшая зал баркарола из «Сказок Гофмана», Георгий почувствовал, что с ним происходит совсем уже для мужчины странное… «Belle nuit, nuit d'amour…», «Le temps fuit et sans retour, emporte nos tendresse…»[16]– как же не заплакать оттого, что быстротекущее время уносит нежность… и ВСЁ!!! И остаются лишь мелодия и слова, которые поются сейчас так чарующе, так просветленно, словно в кратковременности счастья есть нечто более высокое, нежели в нем самом.
Но Риночка, разглядев сбегающие по щекам Георгия слезы, сняла перчатку и погладила его руку…
Словно говоря: «Нет-нет, есть еще и «другое ВСЁ», в котором любовь живет дольше, чем музыка о ней».
А когда они вышли на улицу, мальчишки уже размахивали экстренными выпусками газет, в которых сообщалось, что сегодня в Сараеве убиты наследник австрийского престола и его жена.
Глава пятая
– Скверно, Гёрка, – сказал дед, – к войне дело идет. Немца быстро одолеть не получится, а надолго нам мочи и терпения может не хватить.
Бучнев и сам это чувствовал – и чем ура-образнее гремели речи, чем больше появлялось статей, сулящих неслыханные выгоды от контроля над Босфором и Дарданеллами, тем тревожнее было нутром ощущаемое: нет, не хватит нам запала на тяжкую драку за Константинополь и проливы. Не к добру, не к добру приведет это лихорадочное стремление пролитием крови вернуть уверенность в себе и в стране.
– Только вот что, – продолжал дед, – ты учти: сколь бы война эта ни была неправедна, Бучневы, когда Россия бьется, в кусточках не отсиживаются.
– Сам знаю, – непочтительно буркнул Георгий, – думаю санитаром пойти.
– Дело! Но вот куда именно: в подвижной полевой госпиталь, в полевой запасной или, чтоб уж наверняка уцелеть, в санитарный поезд?
Георгий усмехнулся: дед, предвидя решение внука заранее, не поленился разузнать об устройстве российской военной медицины.
– Я не уцелеть хочу, а спасать. Буду санитаром при полковом перевязочном пункте.
– Дело! – еще решительнее одобрил старик. – Но чтобы по-христиански: не только наших раненых с поля боя выносить, но и немцев, если случится, и прочих неприятелей…
– Сам знаю.
– Знаю, что знаешь, однако повторенье – мать ученья. И помни: все равно мы всех неправых нашей правотою…!
И в который уже раз Георгий подумал, что восьмидесятипятилетний дед едва ль не крепче него самого… во всяком случае, прочнее и неподатливее, как корень в сравнении со стволом, пусть даже сколь угодно неохватным… А уж эта упрямая присказка!.. Не для дамских ушей, конечно, но как часто он подстегивал ею самого себя! Хулиганская присказка, безусловно, но пусть! Ведь любое настоящее подстегивание должно оставить след в памяти или, по крайней мере, на коже!
Толстой к отчаянному выкрику Георгия: «Ничего, все равно мы их всех…!» остался почти безучастен, только спросил:
– А зачем вам надобно так думать?
Не задал обычные вопросы: «Кого – их всех?!», «Чем… это самое сделаем?!» – нет, не задал. Только спросил:
– А зачем вам надобно так думать?
И тут же ответил сам:
– Вместо «Верую!»? Этим веру не заменить. Пробовал. Знаю.
Осенний рассвет не в охотку, через силу, проникал в ночной покой Ясной Поляны. Георгий, пришедший совсем затемно и вдоволь наплававшийся в нижнем пруду, обсохнуть не успел: завидев идущего к купальне хозяина, поспешно натянул одежду на мокрое тело. И пока рассказывал коротко, кто таков и откуда, почувствовал, что замерзает.
А Толстой слушал его невнимательно; видно было, что встречей слегка раздосадован, но готов ступить на привычную стезю нравоучительства, хотя и потребует это от него немалых усилий.
Однако странный великан ни совета, ни наставления не просил, а пришел будто бы только затем, чтобы поплавать. Сказав несколько мимо ушей пронесшихся фраз, заспешил уходить – и слава богу, что заспешил, – как вдруг выкрикнул, словно прощаясь, какую-то глупость, претендующую, тем не менее, быть неким девизом или, что еще пошлее, кредо. Получив же отповедь, достаточно категоричную, не «отправился в угол», не повинился, а принялся возражать:
– Вы меня, Лев Николаевич, в атеисты не записывайте – верую от рожденья и по воспитанию. Глагол я употребил не очень приличный… однако «победим» или «одолеем» звучало бы не в пример кровожаднее. Извините уж, что с вами, великим писателем, о выразительности слов заспорил.
– Сами, чай, писательством увлекаетесь?
– Никогда об этом не мечтал и мечтать не стану.
– О чем же мечтаете?
– В эту самую секунду – о том, чтобы согреться. Простите великодушно…
Запрыгал, размахивая руками, потом стал приседать, наклоняться в разные стороны… и Толстой невольно залюбовался животной легкостью его движений…