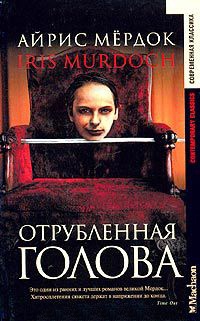— А вы, по-моему, наоборот.
— Да, я гораздо общительнее Майлза. Можно мне тоже навестить Бруно?
— Конечно. Он очень хочет вас увидеть.
— Правда? Я думала, он и не подозревает о моем существовании.
— Ну что вы, ему не терпится с вами познакомиться.
— Это меня радует. Только пусть сначала Майлз сходит к отцу. А мне всегда хотелось познакомиться с вами и Бруно. Он очень страдает?
— И да, и нет. У него нет болей, и он в здравом уме. Он вас полюбит.
— И я его полюблю.
Какой же я дурак, думал Денби. Даже представить себе не мог, что встречу здесь такую девочку. Просто счастье для Бруно. Она найдет подход к старику. Женщины в этом смыслят гораздо больше. Он снова оглядел комнату. Женщина, которая ничем не занята, сидит в обитом ситчиком кресле и читает. Он увидел книгу на одном из кресел. Джейн Остин. Женщина, которая, наверное, немного скучает. Которая чего-то ждет.
— Очень рад, что мы наконец познакомились, — сказал Денби.
Господи, какая сексуальная музыка, подумал он. Что же это такое? Очень знакомая мелодия.
— Что это за пластинка?
Диана усилила звук. Это был медленный фокстрот, классический, благородный, чрезвычайно сладкозвучный, всколыхнувший в душе Денби драгоценный, хотя и не очень уместный, отзвук прошлого. Ноги его сделали заразительное скользящее движение по устилавшему пол гладкому ковру. Он шагнул к Диане, обвил рукой ее талию; они танцевали молча — вперед, назад, поворот, медленно, ритмично, слаженно, их тени, слитые воедино, порхали по стенам следом за ними.
Музыка кончилась, и они отстранились друг от друга. Взгляд голубых глаз погрузился в карие, и карие потупились.
— Вы прекрасно танцуете, Диана.
— Вы тоже.
— По-моему, медленный фокстрот — это самый лучший танец на свете.
— Да. И самый трудный.
— Сто лет не танцевал.
— Я тоже. Майлз не выносит танцев.
— В свое время я побеждал на танцевальных состязаниях.
— Я тоже.
— Диана, а что, если я приглашу вас как-нибудь днем в танцевальный зал, знаете, в такой, для всех. Вы придете?
— Конечно, нет.
— Майлз ведь не будет возражать, как вы думаете?
— Денби, не валяйте дурака.
— Диана, медленный фокстрот?
— Нет.
— Медленный фокстрот?
— Нет.
— Слоуфокс?
— Нет.
Глава IX
Босоногий Найджел сидит на корточках у ограды и смотрит куда-то вниз. Руки в ржавчине, ноги заляпаны грязью. Случайный в этот поздний час прохожий подозрительно оглядывается на него. Найджел, не меняя позы, улыбается, его зубы блестят в полутьме, отражая свет отдаленного уличного фонаря. Прохожий, постояв в нерешительности, пятится и бросается прочь. Продолжая улыбаться, Найджел возвращается к прерванным наблюдениям. За незашторенным окном жилец полуподвальной квартиры укладывается спать. Вот он снимает брюки, небрежно бросает их на пол, подходит к умывальнику, оправляется. Стягивает с себя рубашку с обмахрившимся подолом и принимается деловито чесать подмышки. Вот он перестает чесаться и с серьезным видом нюхает пальцы. Прямо поверх грязного нижнего белья надевает мятую пижаму и неуклюже забирается в постель. Некоторое время он лежит, равнодушно уставившись в потолок и почесываясь, потом выключает свет. Найджел поднимается на ноги.
Вот они, достопримечательности его ночного города, места, куда стекаются паломники, места, где грешат, места, где отпускаются грехи. Босоногий Найджел бесшумно скользит по тротуару, прикасаясь к каждому фонарному столбу. Он видел людей попранных, обессиленных, проклинающих, молящихся. Он видел, как человек, подложив мягкую подушечку, становится на колени, складывает в молитве ладони и закрывает глаза. Повсюду из человеческих сот священного города исторгаются молитвы любви и ненависти. Отрешившийся от собственного «я», Найджел тихо обходит семимильными шагами город, а вокруг него со слабым шелестом устремляются ввысь молитвы. Какую бы религию ни исповедовал человек, она всегда возвышает душу. По темным проулкам смуглые почитатели культа в белоснежных одеждах безмолвно несут белые благоухающие гирлянды, дабы прикрыть ими наготу Великого Шивы.
Найджел неслышно ступает, перешагивает через улицы, его босые ноги не касаются земли, он невидимый зритель в театре жизни. Вот он у священной реки. Она течет у его ног, черная и полноводная, река слез, уносящая человеческие трупы. Река слез, но Найджел не из тех, кто плачет. Широкая река, исполинская, черная, несет свои воды под звуки надтреснутых церковных колоколов. Эти звуки взлетают стаями летучих мышей, застилая темно-бурое небо. Мутная река покрыта рябью, набухла, вспучилась у берегов. Найджел совершает жертвоприношение: цветы. В каких садах под покровом ночи собирал он их? Он бросает цветы во вздыбившиеся воды, вслед за ними бросает все, что есть у него в карманах: перочинный нож, носовой платок, пригоршню монет. Река принимает со вздохом и цветы, и белый платок, медленно унося их в тоннель ночи. Найджел — бог, раб — стоит прямо, он страдалец за грехи больного города.
Он ложится на тротуар, и волны подносят к его зорким глазам иллюминатор баржи. На кровати сидят мужчина и женщина, женщина — голая, мужчина одет. Он ругается, грозит женщине кулаком. Она отрицательно качает головой, с усилием отводит его руку, от натуги и страха лицо ее искажается. Мужчина начинает раздеваться, срывает с себя с проклятиями одежду. Он откидывает одеяло, и женщина ныряет в постель, как зверек в нору, скрывается в ней, натянув одеяло до самых глаз. Мужчина стаскивает с нее одеяло и выключает свет. Найджел лежит на мокром тротуаре, скорбя о грехах человечества.
Вот он приподнимает голову, чтобы заглянуть в другое незашторенное окно над самой землей. За неубранным столом бранятся Уилл и Аделаида. Уилл держит за руку Аделаиду, она упрямо пытается вырваться. Уилл отшвыривает ее руку. Тетушка вяжет оранжевую кофту.
— Ну так есть у него «Треугольный Мыс»?
— Да, их несколько.
— Ты должна будешь взять именно тот, что мне нужен. Я тебе покажу, как он выглядит.
— Да не собираюсь я брать никакого.
— Нет, ты возьмешь, Ади.
— Нет, не возьму.
— Прямо убил бы тебя, Аделаида.
— Отпусти руку, больно.
— Так тебе и надо.
— Ух, и гад же ты.
— А зачем ты приходишь мучить меня?
— Отпусти руку.
— Тебе доставляет удовольствие меня мучить.
— Отпусти.
Тетушка не впервые замечает лицо Найджела, застывшее за окном, как луна; она загадочно улыбается и продолжает вязать.