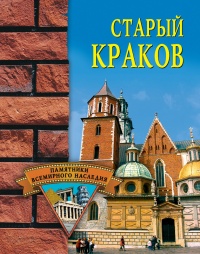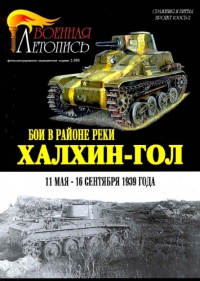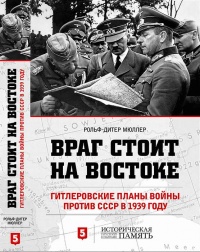Жарко в комнате, печка топится, Огонек горит. Старый ребе учит малых деточек – Это алфавит. – Я не знаю, где они все, – сказала мне Лия наутро, когда мы доели вчерашний чолнт. Теперь ее голос был хриплым, возможно, потому что мы оба заснули на улице, под светом Млечного Пути, а в Германии, в отличие от Франции, рассветы оказались прохладными и сырыми.
– Я думал, ты с мамой и Голдой, – ответил я глухо. Я не хотел этого разговора. Не хотел ничего знать. Руки сами тянулись к ушам, чтобы закрыть их, как я делал в гетто, когда не хотел слышать криков; рыданий матерей, споров с отцами из-за нехватки денег, нехватки хлеба, бесконечных очередей за пайком; протестов сыновей, говоривших, что надо было уезжать из Польши, пока была возможность.
– Ты помнишь отбор? Когда ликвидировали еврейский квартал? Когда нацисты ставили нас в одну очередь или в другую? – спросила она.
Я не помнил. Меня там не было, напомнил я ей. Я уже работал на оружейном заводе. Хаим отправил меня туда на работу, когда вернулся в сарай, где прятал нас с Натаном. Натана он увез первым. Я просидел в сарае еще целый день и ночь, один, слушая крики совы и мычание коров. Когда Хаим вернулся за мной, то отвез меня в гетто попрощаться с мамой, а потом в HASAG.
Лия уставилась в пустоту, а потом начала кивать, словно вспомнила – вспомнила, что меня там не было, и папы с Абрамом тоже, потому что их отправили на работу в HASAG несколькими месяцами раньше.
– Офицер СС спросил Голду, хочет она пойти с мамой или со мной, – внезапно продолжила Лия. – Мы с мамой были в разных очередях. Я должна была работать в женском цеху в HASAG. Я была совсем одна, близко от вас, но мы все равно не могли видеться.
Лия крепко зажмурилась, как будто пыталась прогнать картину, стоявшую у нее перед глазами.
– Мама стояла в очереди с младшими детьми, стариками и больными. Одна. Голда не захотела ее бросать, – продолжала сестра сдавленным голосом. – Голда пошла с мамой, и их посадили на поезд.
Глядя на Лию, на ее искаженное лицо и дрожащие губы, я заранее понимал, что она скажет дальше.
– Я познакомилась с человеком, который кое-что знал про эти поезда, – выдавила она наконец. – Уже здесь, в Фельдафинге.
В ее голосе сквозила тоска.
Я тоже зажмурил глаза.
– Этот человек сказал мне, что Голду и маму отвезли в Треблинку, – пробормотала Лия. – В Треблинку, – повторила она еще раз. – Туда не возили никакие поставки. Только полные поезда людей. А потом эти поезда возвращались пустыми. Ромек, это был лагерь смерти.
Я знал про Треблинку от Якова из Бухенвальда. Лагерь находился на берегу реки Буг, куда папа с мамой летом возили нас на выходные. Яков говорил, что в Треблинке евреев отправляли в душевые, и они ждали, что на них польется вода, а вместо нее начинал поступать газ, и все, кто был внутри, погибали. Потом нацисты сжигали их тела в крематориях. В небо из труб летело что-то вроде снежных хлопьев, но на самом деле это были обгорелые останки евреев.
– Но где же тогда Натан? – спросил я. – И остальные?
– Натана не было с Голдой и Мамой, – ответила Лия, качая головой. – Кажется, Хаим оставил его у какого-то фермера.
Я вспомнил, как мы прятались с Натаном в сарае с сеном и я пытался заставить его замолчать, кормя леденцами. Он не понимал, как важно хранить молчание – в отличие от меня. Он был совсем малыш и хотел играть, смеяться и плакать. Он мало походил на других детей, живших в нашем многоквартирном доме в гетто, которые, казалось, понимали, что происходит, и вели себя как маленькие взрослые в детских телах, предпочитая молчать, словно онемели.
Я вздрогнул, припомнив также, что еще до образования гетто папа отправил меня жить к фермеру в деревню. В семью Бранковских. Если Натан, такой общительный, разговорчивый, любопытный и упрямый, попал к ним же, ему пришлось очень туго.
Спустя несколько дней после последнего шаббата в нашем доме, Хаим отвез меня жить к Бранковским.
Папа, сказал он, снял последние деньги с семейного банковского счета, чтобы заплатить Бранковскому за постой.
– Ты будешь там в безопасности, – говорил Хаим, сидевший за рулем. – У них темные волосы, такие же, как у нас. Представь, какая удача, отыскать польскую семью с темными волосами.
Сначала я не понял, что Хаим имеет в виду. Но вскоре все стало ясно. Бранковские должны были выдавать меня за своего родственника, племянника.
У Бранковских на ферме я впервые ощутил, что такое помешательство.
Я просыпался по ночам, оглушенный, не понимая, где нахожусь, словно меня перенесли в другую реальность, которой я не знал. В какое-то пустынное, холодное и мрачное место, вроде каменистых обрывов на берегу реки, где мы играли в прятки – и я прятался в грязи возле пристани, вместе с червяками и улитками.
Поначалу неприятное чувство успевало развеяться до завтрака, на который мы ели кашу и молоко. Но трое детей Бранковских постоянно сверлили меня глазами, перешептывались и хихикали, и я выпадал из реальности на все большее и большее время.