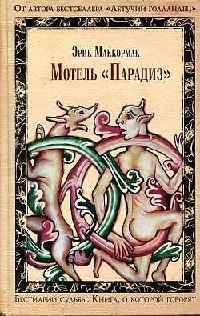Карма уради эль яве
Ярма, симаи, — карме —
Жала явали тра е
Аль вю аль влаюле ва азре
Сафралье вайралье ва я?
Карма серайя
Лайя лайя
Лужа!
И, всмотревшись, он увидел мерцающие в серебристых тенях золотые волосы и странные темно-синие глаза, блестящие в ночи, и ему показалось, что он не в силах удержаться и не следовать за ней; едва одетый, босой, с застывшим взором, он спустился по лестнице, словно во сне, и вышел в ночь.
А она то и дело оборачивалась к нему, и ее странные синие глаза были полны нежности и страсти и печали такой, какая недоступна созданиям человеческим, — и он уже знал, что они придут на берег ручья. Там она, взяв его под руку, обратилась к нему как к старому знакомому:
— Не поможешь мне, Габриэль?
И ему показалось, что он знает ее всю свою жизнь — так что он легко перешел с ней на «ту сторону», но там никого не увидел подле себя; однако уже через миг увидел рядом двух волков. Охваченный неописуемым ужасом, он (кто в жизни не думал об убийстве живого существа) схватил валявшуюся рядом палку и ударил ею одного волка по голове.
Тотчас же женщина-волчица явилась рядом с ним, изо лба ее сочилась кровь, пачкая чудесные золотые волосы, и с бесконечным укором глядя на него, она произнесла:
— Кто же это натворил?
Затем она шепнула пару слов другому волку, который перемахнул ручей и устремился к деревне, и, повернувшись к Габриэлю, произнесла:
— О Габриэль, как мог ты поднять руку на меня, любившую тебя так долго и так крепко.
Ему снова показалось, что он знает ее всю жизнь, но он был словно в дурмане и промолчал в ответ — но тут она сорвала какой-то темно-зеленый, странной формы лист и, прижав его ко лбу, произнесла:
— Габриэль, поцелуй это место, и все станет как прежде.
И он поцеловал ее, как она и просила, и ощутил соленый вкус крови во рту и после уже ничего не помнил.
И вновь перед ним предстал хозяин волков в окружении своей жуткой свиты, заседающий в каком-то странном конклаве, а вокруг на деревьях сидели черные совы, и черные летучие мыши свисали с ветвей. Габриэль стоял в центре круга, и сотни злобных глаз вперились в него. Собрание, видимо, решало, что с ним делать, говоря на том же странном языке, который он уже слышал под окном. Внезапно он почувствовал, как кто-то взял его за руку, — таинственная женщина-волчица стояла рядом. Тогда началось то, что казалось каким-то колдовским ритуалом, — создания человеческие и получеловеческие завывали по-звериному, а звери говорили тем самым неизвестным языком. Потом хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью, произнес несколько слов глухим голосом, звучавшим словно издалека, но Габриэль только и разобрал свое имя и ее — Лилит. И тут же почувствовал, как его обвивают руки.
Габриэль проснулся — в своей комнате — так это был сон? — но какой ужасный! Да, но неужели это его комната? Вон там его пальто на спинке стула — да, но… распятие — где распятие, и маленькая купель со святой водой, и освященная пальмовая ветвь, и древний образ Богоматери вечного спасения с неугасимой лампадкой перед ним, к которому он каждый день возлагал цветы, — но только не синий цветок, его он возложить так и не решился.
Каждое утро, еще не оправившись ото сна, он устремлял к этому образу глаза, произносил «Аве Мария» и осенял себя крестным знамением, приносящим мир душе, — но как страшно, как непостижимо — его больше нет там, совсем нет. Он, верно, еще не проснулся, по крайней мере, не совсем проснулся, сейчас он совершит крестное знамение и освободится от этого страшного морока — знамение, да, он совершит его — но как надо его свершать? Неужто он забыл? Или рука его парализована? Он не мог шевельнуться. Значит, он забыл — а молитва — он должен ее помнить. «A… vae… nunc… mortis… fructus…» Нет, кажется, не так — но очень похоже — да, это все наяву, и он может двигаться — он попытался убедить себя — вот сейчас он поднимется и увидит за окном старую серую церковь с изящными остроконечными шпилями, озаренными восходом, и тотчас же глубоко и торжественно ударит колокол, и он сбежит вниз и натянет свой красный стихарь, и затеплит высокие свечи на алтаре, и благоговейно дождется, когда нужно облачать доброго, любезного аббата Фелисьена, прикладываясь к каждому одеянию и поднимая его на вытянутых руках.
Но ведь это же не рассвет; это больше похоже на закат! Он выбрался из своей белой кроватки, и необъяснимый страх овладел им, он задрожал и вынужден был схватиться за стул, прежде чем достичь окна. Торжественных шпилей серой церкви не было — вместо них расстилались глубины леса; чащи, которые он прежде не видел, — но ведь он обходил его вдоль и поперек, а это, наверное, «та сторона». К страху примешалась вялость и утомление не без приятности — пассивность, примирение, снисхождение, — он почувствовал, как на него накатывает мощная ласковая волна чужой воли, одевая невидимыми руками в неосязаемые одежды; он почти механически оделся и сошел по той же лестнице, по которой обыкновенно с шумом скатывался. Широкие квадратные ступени, лучащиеся разноцветьем, показались ему необыкновенно красивыми — почему прежде он этого не замечал? — но он постепенно терял способность удивляться — вот он вошел в комнату — на столе был обычный кофе и булочки.
— Габриэль, ты припозднился сегодня.
Мягкий голос, но интонация какая-то странная, — перед ним была Лилит, таинственная женщина-волчица, ее сверкающие золотые волосы были стянуты в тугой пучок, она была одета в платье кукурузного цвета, на коленях ее лежала вышивка со странными змеевидными узорами. Пристально глядя на него своими прекрасными темно-синими глазами, Лилит произнесла:
— Габриэль, ты припозднился сегодня, — и он ответил:
— Вчера я утомился, налей мне кофе.
Сон внутри сна — да, он знал ее всю жизнь, они жили вместе; разве не всю жизнь они жили вместе? Она брала его с собой в прогулки по лесным полянам и собирала ему цветы, такие, каких прежде он не видел, и, не сводя с него удивительных синих глаз, рассказывала истории странным низким грудным голосом, который словно сопровождался слабой